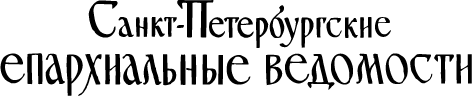СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ
Е. Поселянин
Идеалы христианской жизни
(продолжение)
О ТИШИНЕ ДУХА И ХРИСТИАНСКОМ ВЕСЕЛИИ
Состояние христианского веселия близко подходит к состоянию тихого духа. Оно внушается человеку глубокою верою в Божий Промысел, в Божие водительство, в силу искупительной жертвы Христовой, в будущую» счастливую загробную жизнь.
Как все кажется светлым, радостным, радужным в присутствии любимого человека, и как все самое радостное без него кажется покрытым какою-то черною тенью; то же самое переживает душа относительно Бога. Великий старец Парфений Киевский подчеркнул эту мысль. Он говорит; «с Богом и в аду хорошо, а без Бога и в раю плохо». И люди, живущие в Боге, полны всегда трепетного чувства Его присутствия; радуются Ему во всякую минуту жизни своей, еще больше, чем радуется человек в присутствии земного человека, в самые напряженные дни своей любви.
Воспитать и развить в себе это реальное ощущение Божия в мире присутствия составляло главнейшую задачу на пути всех подвижников.
Величайшие из них переживали тяжелую борьбу в конце своего подвига, при восхождении на высочайшую ступень: по попущению Божию их волновала мысленная брань — страшное томящее чувство, что Бога нет, обуревающие хульные помыслы против святынь, которым они с детства поклонялись.
Но это последнее нападение врага они отражали, и, когда они одолевали это искушение, как одолел его великий старец Серафим Саровский тысячедневной молитвой на камне с воздетыми руками и мытаревой молитвой на устах: с тех пор начиналось ни чем уже более не прерываемое, сплошное веселие духа.
Но и на низших ступенях духовной жизни бывают моменты, когда человек чувствует, что как бы оставлен Богом, великий подвиг показывает, тот зарабатывает себе венец духовный, кто переносит спокойно эту тяжелую напасть.
Ужасное состояние! Жизнь кажется тогда бесцельной и ненужной, скрылось солнце жизни, не для кого жить, не к кому стремиться; впереди нет ничего, земное все оканчивается обрывом, куда летит жизнь, упершись в тупик.
И вот, в таком положении верить в то небо, которое как будто само ушло от человека — какая для этого нужна сила духа...
Представьте себе, что кто-нибудь, привязавшись к человеку на земле, весь полон одною заботою об этом человеке, готов ему всячески служить, приносить ему жертвы — наполнить всю свою жизнь этой привязанностью, одною думою о нем.
И в ответ на такие чувства он не только ничего не получает, но человек, на которого направлена его привязанность, равнодушен к нему самым явным, несомненным равнодушием.
Испытываемые тут страдания все же легче того, что переживает христианин, когда ему кажется, что он оставлен Богом.
Его страдания тут приближаются к страданиям Христа в тягчайшие минуты, когда Он, вися на кресте, почувствовал, что Он оставлен Отцом. Но вместе с тем, верх верности Богу в эти минуты испытания не отступиться от Него, продолжать служить Ему с еще большим усердием, чем, когда Господь отвечал человеку, являл ему знаки промышления Своего, утешал его утешениями духовными.
В эти минуты надо рассудку своему внушать, рассудку, потому что сердце тогда как бы заперто в неподвижных скалах, ничего уже не воспринимая: надо рассудку внушать, что Бог не может забыть создания Своего, и еще ближе к нему, чем в счастливые дни.
«Как на сильного духом,— словно говорит Господь,— Я наложил на тебя тягчайшее испытание. Ты Мне молишься — и тебе кажется, что молитва поднимается не в небо, а в каменный свод, и падает обратно, так как не может дойти до Меня... Ты ко Мне вопиешь, и Я тебя не слышу, оставаясь глухим к твоим воплям... Я скрыл от тебя Лик Свой, который ты прежде прозревал временами; Я вынул из тебя живое чувство бытия Моего: это бытие тогда казалось тебе столь несомненным, теперь же ты в ужасе спрашиваешь себя, существую ли Я, Который пред тобою и слеп, и глух, и нем... И помыслы ропота, вражды и хулы приходят к тебе, и, словно вне тебя, слагаются влекущие тебя помыслы отчаяния и отрицания. И тебе кажется жестоким усомниться в Том, Кому ты отдал всю свою жизнь — взывать и не быть услышанным, искать и не обретать... Но для того Я скрыл от тебя Лице Мое, чтобы явить тебе Его после страдания твоего еще яснее и несомненнее... Я для того кажусь тебе неслышащим, чтобы ответить тебе потом громче... Терпи и претерпи до конца... Пусть ожесточается мука твоя: Я был оставлен Отцом, но перенес этот тягчайший из крестов и победил. Победи же со Мною и ты.
Этим оставлением тебя, и тем, что Я допускаю до тебя искушения — искушения хульных помыслов — Я испытываю тебя, чтоб потом дать тебе ничем не нарушимую тишину».
И действительно, это кажущееся оставление Богом человека является последним его испытанием, а затем начинается область ничем не смущаемой тишины, постоянное и ровное веселие духа.
Христианское веселие духа основано не на каких-нибудь внешних условиях, а на живом чувстве повсюду Бога.
Христианин в окружающем его мире постоянно ощущает присутствие Творца, радуется тому, что Бог так чудно замыслил и так чудно исполнил в создании вселенной Свой замысел. Он радуется всем искрам Божества, которые он чувствует во встречных людях — даже, если б эти люди были недостойные, грешные, падшие. Но больше всего радуется он совершенному Христом великому делу искупления.
Он радуется тихой святыне Девы Марии, и слету к Ней Архангела с благою вестью о тайне Вифлеемской ночи, и великой проповеди Христовой, и всему, что спасающего, возрождающего, нового и сильного заключено в этих словах. Он радуется тем обетованиям, какие произнес Христос для верующих, радуется будущему блаженству, спасительной струе крови Христовой, текущей по миру.
Какое счастье почерпает из всего этого душа праведника — можно видеть из воспоминаний одного инока, которому довелось слышать рассказ старца Серафима о восхищении его в райские обители.
Старец говорил так: «Вот, я тебе скажу об убогом Серафиме. Я усладился словом Господа моего Иисуса Христа, где Он говорит: в дому Отца Моего обители мнози суть. На этих слова Христа Спасителя я, убогий, остановился и возжелал видеть оные небесные обители, и молил Господа Иисуса Христа, чтобы показал мне эти обители. Господь не лишил меня Своей милости. Вот, я был восхищен в эти небесные обители. Только не знаю: с телом, или кроме тела, Бог весь: это непостижимо. А о той радости и сладости, которые я там вкушал, сказать тебе невозможно».
О. Серафим замолчал... Он поник головой, водя рукой около сердца. Лицо его до того просветлело, что нельзя было смотреть на него. Потом снова заговорил: «Если б ты знал, какая радость ожидает душу праведную на небе, ты решился бы во временной жизни переносить всякие скорби, гонения, клевету; если бы келия наша была полной червей, и черви эти ели бы плоть нашу всю временную жизнь нашу, то надо бы было на это согласиться, чтобы только не лишиться той небесной радости. Если сам Святой Апостол Павел не мог изъяснить той небесной славы, то какой же другой язык человеческий может изъяснить красоту горняго селения?»
Помещица госпожа Еропкина передает свое впечатление от одного разговора со старцем. «Я удостоилась услышать от него утешительный рассказ о Царствии небесном. Ни слов его, ни впечатления, сделанного им на меня в ту пору, я не в силах теперь передать в точности. Вид его лица был совершенно необыкновенный. Сквозь кожу у него проникал благодатный свет. В глазах у него выражалось спокойствие и какой-то неземной восторг. Надо полагать, что он, по созерцательному состоянию духа, находился вне видимой природы, в святых небесных обителях, и передавал мне, каким блаженством наслаждаются праведники. Всего я не могла удержать в памяти, но знаю, что говорил он мне о трех святителях: Василий Великом, Григории Богослове и Иоанне Златоусте, в какой славе они там находятся. Подробно и живо описал красоту и торжество святой Февронии и многих других мучениц. Подобных живых рассказов я ни от кого не слыхала. Но он точно не весь высказался мне тогда и прибавил в заключение: «Ах, радость моя, такое там блаженство, что и описать нельзя!»
Конечно, воспоминания о таких мгновениях, которые в жизни его должны были возобновляться, давали старцу Серафиму настроения радости и веселия духовного.
Как-то раз один из молодых, современных ему Саровских послушников впал в глубокое уныние и думал даже оставить монастырь. В этом настроении он шел по берегу реки Саровки, как завидел издали великого старца. Послушник хотел избегнуть встречи и направился в сторону; как по своей прозорливости Отец Серафим направился прямо на него. Он быстро приблизился к монаху и с воодушевлением, топнув ногой о землю, произнес: «Что это — унывать? Разве можно унывать! Бог нас искупил, грехи изгладил, двери Царствия Небесного растворил, а ты унывать!» В словах старца была какая-то великая уверенность в том, что он говорил. Он был весь полон какой-то радости, точно сам только что вернулся от Гроба Господня с лежащими еще на нем погребальными пеленами и принес эту весть унывающему и усомнившемуся в спасении человеку; и радость свою старец передал этому монаху, в котором разом воцарилось светлое успокоение.
Вот, эта самая бодрость души поражает во всех духовных людях.
Кому приходилось приближаться к великому Оптинскому старцу Амвросию, тот не мог не быть поражен бодростью духа в этом постоянно изнемогающем человеке. Всякое утро, по собственному признанию, едва придя в себя после трудов предыдущего дня и плохо проведенной ночи, он уставал до того, что язык его еле двигался. И, однако, обуреваемый народным множеством, и письмами теребимый со всех концов России, он был неизменно ясен духом и бодр, часто шутил.
То же самое можно сказать об отце Иоанне Кронштадтском, который вел жизнь, с точки зрения удобств, мучительную, и при этом всегда был добр и ясен духом.
Чрезвычайная бодрость души со склонностью к острым словам, невинным шуткам замечалась и в одном из величайших подвижников последнего века, митрополите Московском Филарете.
И какое великое дело в жизни эта ровная веселость духа, и как драгоценны люди, ее в себе носящие и распространяющие вокруг себя это настроение!
Всем тяжело, всем грустно, все удручены, и это дурное настроение одного заражает других, и происходит какая-то взаимная зараза. Но вот, вошел человек, бодрый своей верой и потому жизнерадостный, и всем как-то стало покойно, хорошо и надежно.
Христианин, вообще, по своему миросозерцанию, всегда оптимист.
Люди, в детстве и отрочестве идеально настроенные, часто переживают страшнейшую муку, когда открываются у них глаза, и ближайшие к ним люди, как родители, окажутся далеко не на той высоте, как они думали. Многое они о них узнают позорное. Это бывает ударом таким, который часто делает их скорбными духом на всю оставшуюся жизнь, окутывая их жизнь черным флером.
Для человека христианского настроения это, конечно, испытание тяжелое, но излечимое. Он знает о том, как силен грех, и как этот грех извращал высоких людей, становившихся потом не только достойными людьми, но и великими святыми. Верою в божественную благодать он знает, что эта благодать возродит человека, и что он увидит, если хоть не на земле, то в будущем царстве близких ему людей преображенными.
В этом смысле замечательно стихотворение философа и поэта Владимира Сергеевича Соловьева, написанное им любимой женщине, все недостатки которой, между прочим, большую лживость, он ясно видел. Она не верила его верованиями, и он, однако, мечтал с ней свидеться, уповая, что все ее земные недостатки исчезнут в будущем царстве, и что он увидит ее такою, какою он ее предчувствует здесь, в ее искажении:
О, что значат все слова и речи,
Этих чувств отлив или прибой
Пред тайною нездешней нашей встречи,
Пред вечною недвижною судьбой!
В этом царстве лжи о, как ты лжива!
Средь обмана, ты живой обман.
Но ведь он со мной, он мой —
Тот день счастливый,
Что развеет весь земной туман.
Пусть и ты не веришь этой встрече:
Все равно, не спорю я с тобой...
О, что значат все слова и речи
Пред вечною недвижною судьбой!
Кто также, как не христианский воспитатель, может быть так спокоен за участь воспитываемого им ребенка? Видя какие-нибудь пороки, унаследованные от родителей, педагоги мирские только разводят в отчаянии руками. А христианский воспитатель, зная христианский взгляд на испорченность, с одной стороны, человеческой природы, и на возрождающую силу Христа, Который пришел «взыскать и спасти погибших», с другой, нисколько, во-первых, не удивляется при проявлении дурных склонностей, и, во-вторых, верит в то, что благодать сильна возродить этого падшего.
В отношениях наших к людям мы часто бываем угрюмы, нетерпеливы, взрывчаты. Это большой недостаток и большая вина перед людьми, как бы они нам с виду не казались ничтожны. Может, у человека, с которым мы неосторожно обращаемся, и без этого целый ад в душе, а мы еще прибавляем ему страданий своим отношением.
Ужасно думать также о том, что никогда не знаешь, увидишь ли еще этого человека и успеешь ли загладить напряженной добротой неприятность своего обращения. Так часты теперь внезапные смерти, что люди, о которых мы были уверены, что они переживут нас, вдруг умирают неожиданно, через несколько часов после нашего свидания с ними.
Как драгоценна эта ровная бодрость духа и теплота души, ничем ненарушимая ясность духовного веселия!
Довольство судьбой, близко примыкающее к настроению духовной тишины и духовного веселия, принадлежит тоже к числу добродетелей, которые вырабатываются в душе христианскими взглядами.
Довольство судьбой основано, прежде всего, на доверии к Богу, на уверенности, что Он ставит человека на самый полезный для него путь, на уверенности, что земная жизнь, сама по себе, есть ничто иное, как приготовление к вечности, и что все земные недочеты — ничто перед громадой будущего счастья, как о том говорил в вышеприведенном отрывке старец Серафим: «если бы келья наша полна была червей и черви ели плоть нашу по временной нашей жизни, то на это надо согласиться, чтобы только не лишиться той небесной радости».
Память о жизни Христа, о тех великих лишениях, которые Он терпел на земле, и чтение житий святых, где показано, как величайший богач лишал себя всего и доходил до самого убогого быта, до заплесневевшей корки хлеба и определенной меры воды — способствует чрезвычайно к выработке в себе довольства своей судьбой.
Наоборот, чем глубже мы погружаемся в мир, тем сильнее развивается недовольство нашей обстановкой, и все желания наши никогда даже не будут удовлетворены. Как бы удачливо не слагалась наша судьба, как бы мы быстро не продвинулись вперед, по ступеням к сказочному довольству, человек не будет доволен, потому что ни об одном человеке в мире нельзя сказать, что нет человека еще его богаче. Английский знатный богатейший лорд завидует американскому миллиардеру, во много раз богатейшему его; а американский миллиардер завидует знатным предкам лорда, которых он ни на какие деньги себе купить не может. И тот и другой завидуют коронованной особе. И Наполеон на высоте своей раздражался тем, что некоторая часть Европы ему не подвластна.
Недовольство судьбой распространяется сейчас с невероятной быстротой, потому что, кажется, ни одно время не было заражено никогда такой страстью, как теперь, казаться богаче, чем есть на самом деле, и гоняться за людьми роскошнее тебя живущими.
Нынешняя молодежь, например, в большинстве случаев, совершенно не хочет знать цены деньгам. Приходится слышать об учащихся, которые получают от родителей какие-нибудь 5, в крайнем случае, 10 рублей в месяц, что является совершенно достаточным для того, чтобы удовлетворять все разумные нужды, а позволяют себе проезжать больше, чем все их месячные деньги, на каких-нибудь лихачах или распространившихся теперь моторах.
Вообще, та жажда удовольствий, которая охватила теперь людей, чрезвычайно губительна. Мы не хотим знать, что вся наша жизнь должна быть посвящена размеренному ежедневному добросовестному труду, который только изредка перемежается с разумным развлечением. Европа не знает того количества прогульных дней, из-за которого страдает наша промышленность и наши ремесла.
Люди средних лет прекрасно помнят, как много раньше вообще сидели дома, как редко вечер проводили в театре или в каких-нибудь собраниях. Теперь же встречаются многочисленные, едва выходящие из детского возраста, подростки-гимназисты, которые ни одного вечера не могут посидеть дома, и которых тянет, если не в театр и не на вечеринку, то, по крайней мере, пройтись по освещенным улицам, и жизнь все как-то ударяется во внешность. Все глубокое, внутреннее, настоящее ослабевает. И что-то неправильное и нечистое вкрадывается в такую жизнь.
Глава VI
ПРАВДА, ИСКРЕННОСТЬ, СКРОМНОСТЬ
И ТАЙНА ЖИЗНИ, ЧИСТОТА
Правда никогда не ощущается так ясно, никогда не чувствуется во всей своей силе и красоте, как когда вы отстали от окружающей вас лжи.
Чем дальше удаляется жизнь от христианских идеалов, тем сильней и шире распространяется в жизни ложь.
Ложь в жизни так обширна, так глубоко проела насквозь все людские отношения, что трудно даже ее определить одним словом.
Ложь — самый наш быт, беспечальное и широкое житье одних и жалкое влачение существования людьми, несравненно более их работающими и более их достойными.
Ложь — это наше стремление хорошенько в жизни устроиться, веселей пожить — пышней, ленивей.
Ложь — это наше внешнее обращение с людьми, полное часто мягкости и фраз, содержащих как будто расположение к ним, когда мы к таким людям в лучшем смысле совершенно равнодушны, а в худшем — их ненавидим: те отношения, о которых говорит Писание: «умякнуша словеса их паче елея, и та суть стрелы».
Ложь — то, что те из нас, которые сохраняют в себе знание правды, не высказывают ее там, где надо, и, если встречают человека, которого бы надо было обличить, которого они только что жестоко осуждали, обращаются к нему с приветственными словами.
Если бы среди людей царила правда и за правду эту все стояли бы горой, to как бы легка была жизнь!
Ни для кого ми тайна, что нет почти ни одной области в жизни, в которой бы не царил обман.
И вот, если бы всех обманывающих выводили на чистую воду, если бы людей, которые пьют кровь других, как пили эту кровь, например, заправилы Ленского золотопромышленного товарищества — встречали, как они того заслуживают, отвертываясь от них и громко выражая презрение свое их поступкам: то тогда бы легче было жить; порок не ходил бы увенчанным, а добродетель унижённой.
Привыкнуть к неправде очень легко; надо тщательно охранять себя н следить за собой, для того, чтобы ни одно слово лжи не слетало с наших уст и, наоборот, чтобы мы говорили правду там, где того требует от нас совесть или прямодушие.
Да, во все времена находились прямодушные люди, которые, не стесняясь положением лиц, резали правду в глаза и были как бы судьи общественной совести, с которыми считались и при которых люди нравственно подтягивались.
Одна из таких блюстительниц правды, в высшей среде Москвы, прекрасно изображена, Львом Толстым в «Войне и мире» под именем Марьи Дмитриевны Ахросимовой.

Недавно мне пришлось быть свидетелем маленькой драмы, происшедшей в одном знакомом доме. Мальчик-казачек во время приготовления к званому обеду, неосторожно схватившись за полку с блюдами, уронил на пол два больших блюда, старинного дорогого сервиза, и они разбились вдребезги. В этом доме заведен порядок, чтобы слуга, разбивший что-нибудь, приносил тотчас осколки хозяевам. Кухарка, тоже недавно жившая в доме, по уходе гостей, думала отнести господам осколки, но мальчик уговорил ее этого не делать, боясь наказания.
Господа были добрые, побранили бы за неосторожность и — дело с концом. А между тем, через несколько дней они узнали это происшествие в семье своих родственников, кухарка которых была тогда взята на подмогу их кухарке. Негодованию их на этот раз не было пределов, и мальчик чуть не был отправлен обратно в деревню к отцу, чего ему очень не хотелось, потому что жизнь в Петербурге ему нравилась.
Понятно, что лжет подневольный мальчик с недостаточно развитым нравственным чувством. Но часто лгут родителям учащиеся образованного класса: и лгут тем запутанней и упорней, чем становятся взрослей. Мальчик забрел гулять куда-нибудь с товарищами, опоздал к обеду и вместо того, чтобы указать, куда, действительно, ходил, выдумывает, что весь класс оставлен в наказание, на лишний час в гимназии. Когда становится взрослым и особенно, если родители живут в другом городе, делает фиктивные счета у портных на платье, которое в действительности не шьется, и получаемые от родителей деньги делятся пополам с портным.
Образовывается, таким образом, какая-то двойная жизнь. Одна кажущаяся нормальная жизнь благовоспитанного мальчика. С другой же стороны — жизнь бесшабашных удовольствий, скрываемых кутежей, темных компаний, вздорно тратимых денег, И все вместе приводит часто к полному отчая мм» НИ самоубийству.
В газетах как-то были сведения об одном английском богатейшем лорде, который вел двойную жизнь. Он принадлежал к высшему кругу, который и посещал. Но у него была какая-то непреодолимая страсть к подонкам общества. Временами» одевшись по-хулигански, он тайно оставлял свой дом и отравлялся в хулиганскую среду, в скверные притоны, где был известен всем в этой среде столь же определенно, как и в высшем кругу.

Можно сказать, что такими двойственными людьми в настоящее время являются многие...
Правда в жизни, правда в словах: так, чтобы ни один поступок наш не расходился с внушениями совести, так, чтобы ни одно слово наше не расходилось с нашими убеждениями!..
Некоторые думают, что стоять за правду можно только до тех пор, пока эта правда может победить; что за дело, заведомо безнадежное, нечего и стоять.
Великие борцы за правду понимали это дело иначе. Они стояли за дела, прямо безнадежные. Они громко выражали свое мнение и обличали неправду даже там, где их слово не могло уже более ничего изменить, где дело казалось заранее проигранным.
Вот, Иоанн Креститель обличает беззаконный брак Ирода с Иродиадой, хотя и знает, что обличения его не приведут ни к чему. В конце концов — он гибнет за свою правду. И, по преданию, когда отрубленная голова его была принесена на пир к Иродиаде, последний раз открылись его уста, произнесшие то краткое обличение, за которое он погибал: «недостоит тебе имети Иродиаду, жену Филиппа брата твоего».
Вот, Иоанн Златоуст обличает нечестивую и злобную императрицу Евдоксию и с нею вместе весь Царь-град, погрязший в пороках, вражде и в мелких, пустых и греховных удовольствиях.
Никакие предостережения не могут сдержать обличающий голос. Обличения становятся все более резкими, и несколько раз изгнанного и снова возвращенного Иоанна отсылают в последнее изгнание, где грубым солдатам было предписано обращаться с ним с изощренною жестокостью, и где он в страданиях умирает.
Вот, Филипп митрополит, знатный боярин, оставивший мир для уединенного подвига и из суровых Соловков возведенный на московскую кафедру против воли, начинает свое знаменитое и смелое обличение Грозного. Он чувствует, что Иоанн уже но опомнится, что обличения бесплодны, и что он сам падет жертвой. Но он продолжает свое дело, и Церковь украшается новым священномучеником.
Ибо не в том дело, чтобы слово проповедника и обличителя имело успех, а дело в том, чтобы в нужный день и час, как Божий глас, прогремело над миром предупреждение праведника, чтобы в последующие века не могли сказать, что среди беззаконий, творимых сильными, не нашлось ни одного обличителя, что ложь торжествовала, а правда была унижена, и в этом унижении не нашлось для нее ни одного защитника.
Пусть погибли они, но Иоанн Креститель казнимый, и Иоанн Златоуст, влекомый по каменистым дорогам знойного Кавказа жестокими солдатами, еле переставляющий ноги он, патриарх Царь-града, отданный во власть людей-зверей, и Филипп, покрытый рогожами и перевозимый на дровнях из Успенского собора в темницу, и все другие блюстители зла и провозвестники правды были во всем своем уничижении победителями: на кострах, в тюрьмах властителями и царями. Их поносили современные враги, но прославил их Бог за их верность, поклонились им последующие века и чтут их, как многоценный крупный бисер в венце человечества.
В нашей жизни, среди нашей обыденщины, сколько раз представляется нам возможность сказать слово правды, которое мы в себе утаиваем. Надо строго и постоянно следить за собой, ибо незаметно мы можем проникнуться лживыми взглядами мира, говорить то, чего мы не думаем, скрывать то, что мы думаем.
Ложь весьма часто принимает самые благовидные предлоги.
Мы решили с кем-нибудь прервать сношения, узнав в человеке такие черты, которых мы не можем допустить в своих знакомых. И, когда этот человек приходит к нам, и нам о нем докладывают, мы высылаем сказать, что очень извиняемся, так как больны и не можем принять. Правдивее было бы прямо сказать, что видеть его не можем.
Когда мы не хотим посетить людей, которые нас к себе зовут, мы ссылаемся на несуществующие головные боли и другие недомогания. И у человека, получающего много приглашений и часто от них отказывающегося, за год накопится столько таких предлогов — болезней, что самый здоровый человек себя сам выставил каким-то неисцелимым инвалидом. Мы распространяемся о привязанностях наших к лицам, которых мы ненавидим. Часто поддерживаем и дорожим даже сношениями с людьми, которые кажутся нам глупыми, скучными и пустыми. А поддерживаем эти сношения не потому, чтобы они были чрезвычайно приятны, и лишь потому, что их положение выше нашего, и это льстит нашему чувству чванства.
Как после лиц, проеденных насквозь этой ложью, отрадны и надежны кажутся те люди, которые не говорят лишнего слова и там, где другие изливаются в вымышленных любезностях, сурово молчат.
Есть люди, по-видимому, сухие и сдержанные, но полные внутреннего огня, способные на глубочайшие привязанности.
Много таких людей среди истых монахов высокой жизни.
Мне довелось знавать покойного наместника Сергиево-Троицкой лавры, известного археолога знатока русских святых, отца архимандрита, Леонида Кавелина, бывшего в миру армейским офицером. Это был человек суровый на вид, истинно монашеского склада, не говоривший праздных слов. А, когда он затрагивал такие темы, которые были близки его сердцу, речь его тогда одушевлялась.
Он был духовным воспитанником и послушником знаменитого Оптинского старца Макария. И, когда этот суровый человек упоминал имя старца, глаза его загорались каким-то огнем, и в этих чистых глазах под насупившимися бровями сверкали слезы умиления и благодарности.
Ласковое слово искреннего, прямого человека насколько драгоценней целых длинных излияний людей, которым ни в чем нельзя верить.
Искренность есть драгоценное в человеке свойство, по которому всякое действие человека делается им от души, потому что к тому побуждает его сердце, потому что иначе поступить он не может.
Один подвижник, получавший много приношений от своих почитателей, говорил с восторгом об одном не высоком по положению человеке, который относился к нему с искренностью, и говорил, что никакие богатые приношения не доставляют ему столько радости, как мелкая монета, поданная с усердием этим человеком, голос которого тогда дрожит от волнения, в глазах которого сверкают слезы умиления.
Искренность всегда соединена с простосердечием, с отсутствием посторонних низменных побуждений, с отсутствием мудрой житейски, но далеко не всегда благородной расчетливости, с доверчивостью и прямодушием. Искренние люди по своей непосредственности могут легче поддаваться чужому влиянию, легче впадают в искушение, но они легче встают и исправляются, потому что душа их отзывчива и быстро подчиняется влиянию Христа. Искренность всегда соединена с совестливостью, которая, как бы далеко человек ни зашел в служении своим страстям,— в конце концов заставит его опомниться и выведет на иной путь.
Грустно признаться в том, что множество из христиан, призванных Христом к великой правде в жизни, делах и мыслях, далеки от простой обыденной честности.
Сунуть недобросовестный, подгнивший товар, положить при взвешивании на чашку весов тяжелой бумаги; взять заказ, обнадежить заказчика и водить его за нос неделями; как все это знакомо и как все это печально!
(продолжение следует)
Другие статьи автора:
-
Идеалы христианской жизни
№4 ( 05.11.1991 1991 г. ) -
Идеалы христианской жизни
№5 ( 26.12.1991 1991 г. ) -
Идеалы христианской жизни
№6 ( 03.03.1992 1992 г. ) -
Идеалы христианской жизни
№7 ( 07.04.1992 1992 г. ) -
Прп. Серафим Саровский как Чудотворец
№7 ( 07.04.1992 1992 г. ) -
Идеалы христианской жизни
№8 ( 02.06.1992 1992 г. ) -
Идеалы христианской жизни
№10 ( 02.07.1993 1993 г. ) -
Идеалы христианской жизни
№13 ( 22.03.1995 1995 г. ) -
Идеалы христианской жизни
№14 ( 21.09.1995 1995 г. ) -
Идеалы христианской жизни
№15 ( 27.03.1996 1996 г. ) -
Иеросхимонах Иоанн, первоначальник Саровский
№16 ( 29.07.1996 1996 г. ) -
Идеалы христианской жизни
№16 ( 29.07.1996 1996 г. ) -
Идеалы христианской жизни
№17 ( 14.07.1997 1997 г. )