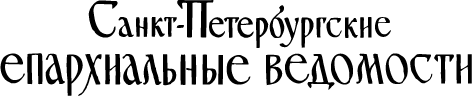РУССКАЯ ГОЛГОФА ХХ ВЕКА
 Прот. Михаил Чельцов
Прот. Михаил Чельцов
Воспоминания «смертника»
Мученики и исповедники за веру Христову наполнили в XX веке великой славой Русскую Православную Церковь, страшные гонения на которую начались сразу после установления в стране безбожной власти. Одним из главных эпизодов в этих гонениях был открытый суд в 1922 году над петроградским Митрополитом сщмч. Вениамином и группой духовенства и мирян, в число которых входил автор публикуемых воспоминаний прот. Михаил Павлович Чельцов. Тоже приговоренный к расстрелу, он на сей раз был помилован и мученический венец получил позднее — был убит палачами в ночь на Рождество 1931 года.
Чельцов пользовался в Петрограде большой известностью, хотя родился он в 1870 году в Рязанской губернии, в семье священника деревни Кикино, учился в Рязанской семинарии, а затем — в Казанской духовной академии, которую закончил в 1894 году, преподавал в Калуге и только в 1898 году переехал с семьей в столицу империи, чтобы защитить магистерскую диссертацию «Церковь Королевства Сербского». Проработав три года епархиальным миссионером и столько же в канцелярии обер-прокурора Синода, молодой священник осенью 1903 года наконец находит себе место постоянного служения и преподавательской работы. Им был Институт гражданских инженеров. В местной церкви о. Михаил служит, а в аудитории читает курс богословия, который пользуется у студентов большим успехом благодаря своему живому и убедительному изложению.
Активно участвуя в церковно-общественной жизни и имея большую семью, о. Михаил успевал заниматься творчеством. Он пишет в журналах статьи, издает брошюры и книги, среди которых есть довольно объемистые и серьезные: «Единоверие за время столетнего существования в Русской Церкви» (1900), «Современная жизнь в расколе и сектантстве» (1905), «Христианское миросозерцание» (1917). Батюшка часто выступал на разного рода религиозно-философских и церковных собраниях, которыми тогда изобиловала столица, примыкая при этом часто к богословствующим модернистам.
Когда разразилась русская трагедия, прот. Чельцову пришлось в 1920 году перейти из закрытой институтской церкви в Троицкий Измайловский собор, где он прослужил пять лет настоятелем, одновременно читая лекции на Высших Богословских курсах. В 1919 году отец Михаил был избран председателем Епархиального совета и оставался в этой должности до своего последнего ареста (таковых было пять) большевистскими властями. Из-за этой должности и попал он под арест в заранее запланированной властями акции по грабительскому изъятию церковных ценностей, истинной целью которой было запугивание русского духовенства. 40 дней и ночей проведено было им в камере смертника на Шпалерной...
На той же Шпалерной прошли и последние дни прот. Михаила, вновь арестованного в августе 1930 года, когда он состоял настоятелем вскоре взорванной Мало-Коломенской церкви Воскресения Христова. По словам очевидца, страдалец за веру православную спокойно говорил о предстоящей казни: «Мне надо радоваться, что Господь посылает мне этот конец, а не старческий недуг и многолетние страдания на одре болезни». Сегодня он молится за нас и землю Русскую перед престолом Господним.
В. В. Антонов
С 10 июня по 5 июля 1922 г. в Ленинграде проходил громкий процесс «церковников» во главе с митрополитом Вениамином. Судили 100 человек, главным образом священников, но были и миряне — мужчины и женщины. Судили в военном трибунале по делу о неотдаче церковных ценностей в пользу голодающих Поволжья, но по ст. 62-й Уголовного кодекса, обвиняя в контрреволюции: «в содействии международной буржуазии в целях низвержения Советской власти».
К разным наказаниям были присуждены они, между прочим, десять человек были присуждены к расстрелу, а именно: митрополит Вениамин, епископ Венедикт, Ковшаров, архим. Сергий (Шеин), Ю. П. Новицкий — из профессоров правоведения и член Государственной Думы, прот. Н. К. Богоявленский,— б. настоятель кафедрального Исаакиевского собора, прот. Н. К. Чуков,— б. настоятель Казанского собора, Н. А. Елачич,— б. секретарь Государственного Совета, Д. Ф. Огнев,— б. сенатор последнего времени и я, Чельцов Михаил Павлович, б. настоятель Троицкого Измайловского собора и председатель Петроградского Епархиального совета. Главным основанием для суда было выдвинуто то, что вышепоименованные лица были членами правления Общества приходских советов Ленинграда, т. е. входили в организацию, хотя существовавшую легально, но обратившую свою работу в деле отдачи церковных ценностей будто бы во вред Советской власти. Меня все время трактовали тоже как члена правления, хотя всем, и судьям в том числе, хорошо было известно, что членом правления я не был и все время стоял в открытой оппозиции сему правлению; приплели же меня, как близкого по своей работе общецерковной к митрополиту и видного протоиерея.
После произнесения приговора нашими защитниками была послана в Москву кассация на приговор, оставленная Москвой без последствий, а нашими родными посланы ходатаи в Москву в ВЦИК с просьбой о нашем помиловании. Ездила туда и моя дочь, 17-летняя девочка Аня, с одной моей знакомой дамой, бывшей начальницей одной женской гимназии, где я был долгое время законоучителем. Ответ из Москвы пришел только в начале августа, а нам объявлен 14 августа. Все это время, т. е. с 5 июля по 14 августа, эти 40 дней мы находились как «смертники» в ожидании известий из Москвы, окончательно решающих наше дело, расстрелять нас или нет. Четверо, а именно: митр. Вениамин, архим. Сергий, Новицкий и Ковшаров не были помилованы, нам же остальным расстрел был заменен пятью годами лишения свободы, т. е. тюрьмой, которая в то время именовалась «исправдомом», т. е. Домом исправления преступников.
Все эти мои записки и описывают мои переживания за этот период — 40 дней «подсмертного» состояния. Писал я их по переводе уже из ДПЗ, что на Шпалерной улице, во 2-й исправдом, из этого последнего они были пересылаемы домой, к семье в качестве писем. Начались писания с ноября 1922 г. и закончены были в феврале 1923 г. Я старался в них быть искренним и правдивым, воспроизводя только то, что и как действительно было и переживалось. Это не дневник «смертника», а лишь воспоминания его о времени с 5 июля по 14 августа 1922 г. Переписаны они с оригинала сохранившихся писем.

24 июля—11 ноября 1926 г.
Говорят, что у больных капризный вкус. Я физически совершенно здоров и бодр, духом спокоен. Но сильно тянет меня к перу и бумаге. Быть может, в этом сказывается, как отрыжка, старая привычка к писательству. Но что писать? Жизнь идет очень однообразно, но так идет только внешняя жизнь событий дня и физическая, дух же требует нового содержания, как пищи себе. Мысль поэтому постоянно работает. Если внешнее не дает ей материала, то она живет воспоминаниями о старом. Все чаще и чаще всплывают в памяти дни бывшего июньского суда и июльского сидения на Шпалерной. Мне и хочется описать все внутренние переживания и перечувствования — в связи с внешней обстановкой — в эти 40 дней предсмертного сидения. После них прошло только 3– 3,5 месяца, и каждая мелочь из пережитого в них еще жива и больно вертится в памяти.
22 июня/5 июля памятный день не только для нас, осужденных к расстрелу, но и для всех вас, более нас страдавших и продолжающих страдать доселе. Еще накануне, после нашего опроса о последнем слове подсудимых, часов в 11 ночи, приказано нашей страже привести нас в суд из тюрьмы в среду, 5 июля, к 4 часам дни. Ехали мы в свой исправдом в настроении почти веселом. Развеселившая нас речь — последнее слово прот. В. А. Акимова, в суде ярых и злых безбожников, и судивших-то нас в целях унижения и издевательства над верой и Христом, описывавшего свои «великие» заслуги для Церкви и за эту речь (иначе он был бы оправдан, ибо не найдено было «преступного» в его «деле») получившего 3 года изоляции; терпеливое и как будто внимательное выслушивание трибуналом нашего «последнего» слова,— нас это все бодрило, и, при естественном желании людей в нашем положении все объяснять преувеличенно и в хорошую для себя сторону, располагало предугадывать завтрашний приговор как для нас добрый. Добрым мы в те минуты считали всякий приговор, хотя бы к тюрьме на 10 лет, только без расстрела.
Мы даже не придавали значения и даже не обратили внимания на то, что сопровождающий нас конвой был увеличен, что кроме него нас охранял еще мотор с 3—5 чекистами, что обычно милые и разговорчивые наши ежедневные конвоиры, сидящие с нами на грузовике, были как будто мрачны и нелюдимы. Еще при рассаживании нас в грузовики мы смеялись, острили, перекликались, смотря, как «грузили» наших сотоварищей, как сельдей в бочку, в другой грузовик. В него, могущего вместить до 20—25 человек, понапихали до 80—90, ибо никто из подсудимых не был отпущен домой, и все были отправлены в 1-й исправдом. Задержанные долгой погрузкой ехавших в 1-й исправдом и выехавшие после них, мы сравнительно долго ехали то за ними, то рядом с ними; наш шофер, подбадриваемый нашими веселыми голосами, старался перегнать наших товарищей, но там не хотели уступать — получался беговой спорт. Наконец, мы победили и весело поехали, как мы говорили, «домой» — в свой 3-й исправдом. Дома спокойно разошлись по своим камерам. По обычаю прежних дней я поел из привезенной из суда провизии, без волнения помолился Богу и без тревожных сновидений провел ночь с крепким сном.
Утро следующего дня, т. е. 5 июля, прошло у меня при спокойном настроении духа. Помню, по обычаю я помолился, прочитал акафист Иисусу Сладчайшему и, ходя по камере, думал, что по всем казавшимся мне основательным данным расстрелов не должно быть и, во всяком случае, меня они не должны коснуться. В свое время я пошел на прогулку, ходил в паре с о. П. Левицким, настоятелем церкви на Песках. Он уверял, что меня непременно освободят; а еще более я утешал его, говоря, что, быть может, дадут ему годика 2—3 тюрьмы, а к большему его, безусловно, не присудят. Тогда же я говорил и с Ленивковым (подследственным из бывших студентов-гражданцев, уверявшим меня, что он, «чекист» с большими связями, скоро не только выйдет из тюрьмы, но и займет высокое место у коммунистов), тоже уверявшим меня, что, по его сведениям, весь наш процесс создан лишь для того, чтобы поиздеваться над верой, унизить нашу Церковь, что расстрелов не будет, что, если меня и присудят к тюрьме, то он быстро устроит меня на работу у себя и т. п.
Без какого-либо страха стал я потом собираться и в суд. Правда, настроение к часу отъезда в суд стало понижаться, что-то тревожное стало заползать в душу, какая-то щемящая грусть уже стесняла грудь. Не с прежним спокойствием услышал я шум подъехавшего грузовика (из моей камеры № 188 на 4-м этаже, выходившей окном через садик на улицу, всегда был слышен грузовик, почему я всегда одевался и приготовлялся в суд заблаговременно и на извещение надзирателя готовиться в суд я выходил из камеры уже готовым), с волнением сошел вниз. Здесь уже собрались и остальные «смертники». Заметно было, что на душе у всех что-то неладное творилось. Изредка слышались остроты и шуточки, но с оттенком тревоги и как бы безнадежности слышались слова вроде: «Ну, слава Богу, в последний раз едем!», «Пусть скорее осудят, чем каждый день слушать издевательства...», «Ну, да не расстреляют же...» и т. п. Прощай, тюрьма, вернемся ли мы сюда, а если вернемся, то какими и для чего? — вероятно, все так думали, как и я. Впрочем, мы почему-то были убеждены, что, к чему бы нас ни присудили, мы непременно хотя" бы на ночь да вернемся в свой 3-й исправдом, почему большинство из нас не собрали своих вещей в камере, а собравшие их — не взяли с собой. Взяли только необходимое для еды и питья.
Припоминаю, что путешествие это последнее в суд прошло почти совершенно в молчаливом настроении. Мы как будто прощались не только с проходящими по улицам нашего пути, — а в лице их со всеми свободными и живыми, — но и с самими улицами и зданиями, садами и т. п., ставшими для нас милыми и дорогими. Народу на улицах нашего проезда — особенно вблизи суда и у дверей его — виднелось сравнительно мало. Заметно было, что он или напуганный чем-то сам боялся быть на пашем пути, или его как-то невидимо отгоняли и не допускали. Не виднелась у суда — вблизи его и у дверей — особенно усиленная стража, как будто было все так же, как и в прежние дни суда, даже как будто тише, и в этой тишине — напряженнее и мрачно грознее.
Около трех часов дня приехали мы в суд вместе с товарищами из 1-го исправдома. Прежде, в дни суда, вновь приезжавшие оживляли нашу «комнату обвиняемых», где мы собирались до вывода нас из зала суда и где проводили время в антрактах суда. Теперь печать чего-то ожидаемого тяжелого, грозного как бы лежала на самых стенах и жалкой обстановке комнаты. Тень смерти, где-то притаившаяся, для глаз невидимая, но сердцем чувствуемая, властно царила над сознанием всех. Разговоры не клеились, щебетали лишь наши дамы, хорошо уверенные, что их или совершенно оправдают или дадут маленькую тюрьму (кажется, их всех под разными видами отпустили домой); даже обычно беспечная, смеющаяся часть хулиганствующих подсудимых и эта сократилась и как-то незаметно себя держала. Не весел был и мой Павлик. Мне чудилось, что и за свою свободу он не был уверен, но обо мне думал лишь мрачное. Правда, он старался утешить меня, а, пожалуй, больше себя словами: «Нет, папа, тебя не осудят... вот посмотри, мы оба с тобой вместе пойдем домой», — но сердце ему другое говорило...

Скоро откуда-то стали выползать слухи, что доподлинно-де известно, что расстрелов не будет и митр. Вениамин будет лишь сослан в Соловки, Другие передавали, что к расстрелу приговорят то 10, то 8, то 6 человек. Всякий раз, как слышал я какую-нибудь новую весть, начинал высчитывать-гадать, подойду ли я к той или иной цифре. И обычно выходило, что, если 10, то и я непременно. Больно, тяжело становилось на душе. Поэтому всячески старался уверить себя, что не 10, а меньше могут к расстрелу присудить» Но не верилось в достоверность ни одного сообщения, было сильное желание убедить себя, что все эти сведения — только сочинительство. А тем не менее очень сильно хотелось слышать все новые и новые сообщения, искать в них приятное для себя успокоение. Но с каждым сообщением на душе делалось все хуже и хуже. Невольно хотелось — не столько разговоров с другими, но от фигур их, от спокойного вида других, от их физиономий — получить надежду на доброе для себя: если они спокойны, значит, они знают что-то хорошее, значит и тебе нечего беспокоиться.
Я старался внимательно всматриваться в настроение в лицо митр. Вениамина. Ему-то, думалось мне, больше всех других должен быть известен исход нашего процесса; ему приговор суда должен быть более грозным и тяжелым, а поэтому на его лице и в его настроении правильнее всего читать приговор и мне для себя. Но как я ни старался распознать что-либо в митр. Вениамине, мне это не удавалось. Он оставался как будто прежним, каким-то окаменевшим в своем равнодушии ко всему и до бесчувственности спокойным. Мне только чудилось, что в этот день он был более спокоен и задумчиво молчалив. Прежде он больше сидел и говорил с окружающими его — теперь он больше ходил.
Открытие суда для выслушивания приговора было назначено на 6 часов. Но около 4—5 стало известно, что открытие отложено до 9 часов вечера. Это опять стало растолковываться по-разному. Хотелось всем видеть в этом утешительное: если отложили, то, значит, идут большие рассуждения, значит, не все заранее было предрешено, значит, можно надеяться на что-то доброе. Но какое-то двойственное волнение возбуждалось этим отложением. Томительное ожидание неизвестного, но, по всей вероятности, не радостного, угнетало и возбуждало одно желание: ах, как бы поскорее все это кончилось хотя бы и тяжелым, но ясным и определенным; но против этого желания скорейшего конца восставало другое желание: как можно дольше не знать этого конца, лучше томиться в неведении ужасного.
Часов около 8 вдруг неожиданно стали нас вызывать в зал судебного заседания, но, оказалось, к фотографу снимать нас. Вызвали сначала двух архиереев, а потом нас, судившихся по 62-й статье. Пока нас рассаживали, мы опять стали толковать это наше выделение, да еще фотографии, в дурной знак для себя. Но скоро стали вызывать и рассаживать не только остальных священников, но и мирян, и почти всех...
Около девяти часов вечера раздался первый звонок — предвестник скорого открытия страшных минут. Невольно екнуло сердце, рука поднялась к крестному знамению, и в глазах и в голове потемнело. Но сознание работало туго... Прозвенел и второй звонок, и мы потянулись в последний раз на свои места — скамьи подсудимых. Кто-то сказал, что нужно выходить в порядке: сначала митрополит, за ним Венедикт, потом «смертники» и остальные. Откуда был этот приказ, я доселе не знаю, но тогда он произвел сильное и тяжелое впечатление. Я выходил, занимал свое место — хорошо это я сейчас припоминаю,— с тупым сознанием или, вернее сказать, почти бессознательно, машинально, не отдавая себе отчета в том, что происходит и что страшное имеет произойти. В эти минуты мне не хотелось смотреть на посторонних, мимо коих приходилось проходить. Но со своего места на публику сидящую я внимательно смотрел, стараясь разглядеть, нет ли кого знакомого и кем вообще наполнен зал. Хорошо припоминаю, что особенный интерес возбуждали во мне студенты Зиновьевского университета. На душе было мрачно, темно, но острой боли, яркой тоски не было. Только бы скорее, скорее...
В начале 10-ти часов вечера раздалось наскучившее за месяц: «суд идет». Глаза всех устремились на входящих судей. Хотелось еще раньше на их лицах прочитать приговор себе. Но лица их по обычаю холодны и грозны. Приглашения сесть не последовало. Все стоим. Начинается чтение приговора. Первые же слова приковывают все внимание. Слышится учащенное биение сердца, какая-то дрожь пронизывает все тело, сковывает сознание, оно потемняется, всякое чувство исчезает. Скоро ли, скоро ли моя фамилия? Произносят ее, но приговора еще нет. Слушаю, но плохо понимаю. Но вот и самый приговор, вот и моя фамилия, и после нее непосредственно — громко и повышенным голосом — Якобченко (председатель трибунала) возглашает: «Расстрелять, а имущество конфисковать!»
Чувствую, что взоры всех обращены на нас, между прочим, и на меня. Павлуша любовно-скорбно на секунду оборачивается назад — ко мне, жмет мне успокоительно руку, как бы для поддержки и для осведомления, как я чувствую себя. На меня эти грозные слова не произвели ошеломляющего действия; что-то темное наволоклось мне на глаза, в сознании была одна только мысль, что домой не пойду и что-то будет сейчас, через час-другой с моей семьей. Но почему-то я не мог долго сосредотачиваться вниманием на самом себе — как будто ничего особенного я о себе не услышал, как будто, как будто я это уже знал или, во всяком случае, предвидел. Помню, я посмотрел на митрополита, и мне понравилось великое спокойствие на лице у него, и мне стало хорошо за него, за себя и за всю Церковь... Я стал интересоваться судьбой своих сотоварищей по суду и особенно, конечно, Павлуши. Внимание мое стало вдруг острым и напряженным настолько, что я с того момента запомнил об очень многих, к каким наказаниям они приговорены, и доселе это помню. О себе совсем позабыл. Особенно я радостно чувствовал себя, когда услышал, что Павлик освобожден. Ну, думаю, будет кому утешить маму, он сумеет ей сообщить эту убийственную весть... и на душе стало легче и спокойно. Я даже приободрился и даже, помню, повеселел.
Закончилось чтение приговора. Всем оправданным возвестили, что они свободны. Уходя от меня в полном убеждении, что на этом свете мы больше не увидимся, Павлуша обернулся ко мне, и мы с ним наскоро, не сказав ни слова друг другу, поцеловались. Увидимся ли? — думалось. Но я как-то уверенно подумал: увидимся, — и добавил: если не здесь, то в будущей жизни.
Не могу промолчать, не отметить: как только закончилось чтение приговора, раздались многочисленные, дружные, громкие рукоплескания, как оказалось, студентов Зиновьевского университета. Ох, тяжело от них почувствовалось, досадно на них... Еще подробность: в конце чтения раздались два-три истеричных вскрикивания. Я очень порадовался, что из моих родных здесь никого не было.
В зале остались одни мы — осужденные. Как-то не хотелось смотреть друг на друга; на душе было пусто и темно, безотрадно и ко всему равнодушие. Помню, мой сосед по скамье о. Павел Виноградов, настоятель от Вознесенья, обратился ко мне с вопросом, к чему я присужден. Я ответил ему с улыбкой. Он даже меня не утешал, сказав только: «Неужели?» Судьи наши, закончив чтение, тоже, по-видимому, чувствовали себя не особенно хорошо и так быстро побежали из зала суда к себе в комнату, что не захотели выслушать наших защитников, которые, сорвавшись со своих мест, закричали им вслед: «Мы кассацию подаем... мы заявляем... мы просим принять от нас заявление, что мы подаем кассацию...». Но судьи наши, как бы чего страшно убоявшиеся, не слушая никого и ничего, бежали и убежали, не принимая никаких заявлений от наших защитников.
Еще до выхода в зал, когда мы были в «комнате обвиняемых», стала распространяться весть, исходящая будто бы от защиты нашей, что, каков бы ни был приговор по нашему делу, защитники в порядке кассации будут добиваться отмены его; говорили, что и расстрелов нечего бояться, ибо ВЦИК их все равно отменит. Появившиеся в те часы-минуты защитники наши были мрачны, неразговорчивы. Мой защитник проф. Жижиленко подходил то к одному, то к другому из «серьезных», «важных» подсудимых, что-то говорил и записывал. Подошел и ко мне и говорит: «Я хочу Вас несколько проинтервьюировать. Придется мне ехать в Москву, каков бы исход процесса ни был, и там поддерживать нашу кассацию. Мы туда же телеграфировали бывшим присяжным поверенным Соколову Н. Д. и Малянтовичу (видные адвокаты старого времени по революционным делам — из очень красных), и они ответили согласием вести ваше дело в Главном Ревтрибунале. Мне для сего потребуются некоторые сведения о вас. Вы, как не член Правления, для кассации и для всего приговора, для пересмотра его, самый лучший повод». Уверял меня, что приговор будет, хоть и суровый нам вынесен, но Москва отменит его.
Итак, заявления наших защитников о кассации не задержали наших судей. Они ушли, убежали. Ушли и оправданные. Остались мы, осужденные. Настроение у всех, конечно, скверное, но ни у кого ни слезинки, ни вздоха. Все хотя и подавлены приговором, но без отчаяния. Сели на свои места на скамьях подсудимых. Молчим. Только среди осужденных не «смертников» слышались разговоры — очень краткие и отрывочные, — вздохи... Стража все продолжала стоять, только более тесно и плотно нас окружив.
Не знаю, откуда был приказ, и мы пошли, без всякого порядка, в обычное место нашего отдыха — в комнату обвиняемых, — в полной уверенности, что там никого нет. Но к своему удивлению — а я к радости — видим там оправданных, здесь же толпящихся. Я иду к своему обычному дивану, где мы с Павлушей в течение всего судебного процесса сохраняли свою провизию и сиживали. Здесь я нахожу Павлика, сильно и, кажется, давно плачущим. Ой, как мне тяжело в это время стало! Все мое внимание перенеслось к семье, к постигшему ее величайшему горю, к тому, как ей тяжело будет теперь жить. Как вдруг — именно здесь и именно в эти минуты — я ощутил и даже осознал всю тяжесть, всю горечь, безвыходность своего положения. Мне стало казаться, что я не буду больше уже жить, что это — последние минуты для прощания с миром и людьми. И как жаль, до физически ощутимой боли жаль мне стало Павлушу и Аню. Мама, думалось мне, так будет убита, так изнеможет от горя, что она — не жилец, не работница и не кормилица. Значит, вся тяжесть моей судьбины падет на старших двоих... С какой любовью я подошел и стал утешать Павлушу!
Но плачущий Павлуша бросился ко мне, и не я его, а он меня стал утешать. Сколько любви, ласки, нежности, заботливости было во всех его не только словах, ибо слова плохо сходили с языка, сколько в жестах! Он гладил меня по голове, по руке, по спине. Уверял, что маму он сумеет утешить и успокоить, что они с Аней поступят на места, будут зарабатывать и кормить семью. Я просил его не тосковать по мне, не раздражаться на младших братьев и сестер, ради коих им придется тяжело работать — дать им образование и т. п. Наши взаимные утешения прерывались подходящими посторонними утешителями, то моими отвлечениями за разными справками.
Появились, по обычаю, разные слухи. Передавалось, что расстрелов не будет, ибо еврейская община, из желания привлечь симпатии православных на свою сторону, уже отправила в Москву депутацию для ходатайства о нашем помиловании. Говорили, что едет в Москву сам Зиновьев с представлением о том же. Новицкий стал говорить мне, что за него поехали в Москву с ходатайством очень солидные депутации от различных ученых учреждений, что он очень Надеется на свое помилование, и добавил, что, если его помилуют, то, конечно, и всех нас, за исключением разве митрополита.
Пришел к нам Гуревич, защитник митрополита, с исписанным листом и стал собирать подписи. Подошел к нему и я. Оказалось, что это доверенность от нас кому-то, а кому и даем не знаю, на подачу и поддержку от нашего имени кассации. Подписал и я. Очень хорошо припоминаю, что мы — смертники — вели себя гораздо спокойнее, чем прочие осужденные. Я в иные минуты чувствовал себя как бы героем за то, что осужден к высшему наказанию.
Пробыли мы в комнате с полчаса. Является комендант и выкликает фамилии нас, смертников, за исключением двух архиереев, и предлагает нам следовать за ним. Наступил час для настоящего прощания. Нас торопят. Я быстро прощаюсь с Павлушей; крепко целуемся. Он меня еще раз просит не беспокоиться за маму и детишек, беречь себя и громко кричит вслед мне, уже убегающему: «Прощай, дорогой папочка!» Я не отвечаю ничего, из глаз текут слезы, кажется, первые слезы. Я убегаю вместе с другими.
Нас выводят на улицу. Сажают в обычный грузовик. Молчание и тишина. Нет ни шуток обычных, ни слова разговора. И кругом нас все молчат. Нас окружает масса конных курсантов и не видится ни одного человека из публики. Везут нас обычным путем, но здесь же объявляют, что везут не в третий, а в первый исправдом, где обычно содержатся приговоренные к смерти в ожидании ее. Это известие прибавляет уныния. Едем при полном молчании. Я помню только одну фразу Новицкого, обращенную ко мне: «Вас вместе с нами к расстрелу? А знаете ли? Вы — наилучший повод к кассации...». На улицах как будто совсем нет людей. Только около Сергиевского собора стояла небольшая кучка, из коей нас благословляют. Тесным кольцом конвоируют конные курсанты в красных фуражках; впереди и позади нас едут чекисты на двух автомобилях. С панели идущие разгоняются, встречным извозчикам шумно приказывают сворачивать вдаль от нас. Как хотелось в эти минуты увидеть кого-нибудь из знакомых, услышать слово одобрения! Но никого!
Перед 1-м исправдомом собрался было народ, вероятно, откуда-то прослышавший о привозе нас. Я впервые вижу эту тюрьму. Поэтому внимание от себя невольно отвлекается к внешнему. Я наблюдаю, как разгоняют народ, как стража наша внимательно следит за нашим выходом из грузовика, боясь, вероятно, побега кого-нибудь из нас. Ведут в тюрьму. Мрачной и неприветливой показалась она мне. К тому же и на улице было темно. Через какие-то переходы вводят нас в приемную канцелярию. Новизна комнаты, новые люди, ожидания того, что с нами будут творить, куда и как посадят, как отнесутся к нам как к смертникам, — все эти интересы минуты поглощают мое внимание, отвлекая его от сосредоточения внутри себя.
В канцелярии принимает нас начальник. Конвоиры, за месяц езды с нами в суд привыкшие к нам, любезно и вполне сострадательно к нам прощаются с нами с пожеланием нам счастливой, благополучной кассации; мы их благодарим за добрые к нам отношения за все время поездок с нами. В канцелярии снимают с нас обычный формальный допрос. На частный вопрос одного из нас нам возвещают, что «смертникам» не только не полагается свидания с родными и прогулок, но и передачи провизии от родных. Это сильно нас обескураживает. Смерть хотя и «на носу», но привязанность к удобствам жизни заставляет забыть о ней. Я сильно пригорюнился. Но тут же слышу успокоение, что дело с кассацией и с помилованием продлится в Москве не свыше 2—3 недель. Ну, думаю, это время и без передач можно прожить, не умру, а там или смерть или облегчение участи.
Нервы у всех у нас натянуты были до крайности; все стараемся молчать, как бы боясь кого-то или чего-то, или признав бессмыслицу разговоров накануне смерти. На почве нервности происходит перебранка между Ковшаровым и Огневым. Последний, очень разговорчивый, до забвения своего положения, стал что-то, любопытствуя, расспрашивать и жаловаться, что он не захватил с собой подушки. Ковшаров резко остановил его и назвал «старым болтуном», который неуместными разговорами может-де повредить всему Огнев, тоже забыв, кто и что он и где он находится, очень разобиделся и стал гневливо выговаривать Ковшарову, что тот не имеет права делать ему замечаний, что он сам все знает и т. п. Помню, мне было неприятно и тоскливо выслушивать эту перебранку. Вот, думалось, люди накануне смерти, почти вычеркнутые из списка обитателей земли, и бранятся! Где у них сознание важности и тяжести минуты?!
Повели нас в наши камеры в нижнем этаже, где обычно проводят дни смертники. Поставив напротив камер всех нас, стали обыскивать. Обыскивали каждого в отдельности и очень внимательно. Осматривали все узелки, вывертывали карманы, ощупывали даже ноги через голенища сапог — светских заставляли разуваться, отобрали подтяжки, бандаж (у Богоявленского), лекарство в пузырьках (у о. Сергия). У меня с брюк сняли веревочку, и я должен был руками поддерживать их, чтобы они не упали. После этого стали нас размещать по камерам. Первую пару обыскали — Чукова и Новицкого, и повели их вместе в камеру № 2; в следующей паре шел я и архим. Сергий (Шеин), коего я доселе совершенно не знал и познакомился с ним только на суде. Нас поместили в камеру № 3; Богоявленский оказался вместе с Ковшаровым — камера № 4, а Огнев с Елачичем — камера № 5. Доселе мы были все вместе, с этой минуты оказались в двойственном числе.
В камере ярко горела электрическая лампочка и обильно освещала всю бесприютность ее обстановки. Камера — обычная одиночка, с обычной откидной тюремной койкой; небольшой, железный, прикрепленный к стене стол и маленький, прикрепленный так же, стул-табурет. Осмотревшись несколько, мы увидели, что койка одна, а нас двое, оба не малы ростом и широки, как же лечь?! Я настойчиво стал предлагать о. Сергию ложиться, а сам предполагал ночь, сидя, дремать. Тот не согласился, настаивая в свою очередь, чтобы я ложился на койке, а он ляжет на полу. Но и для пола нужна была подстилка, коей у вас не было. Тут подошла к нам пожилая женщина, оказавшаяся надзирательницей, очень милой и любезной. Мы стали просить ее дать нам матрац и поставить другую кровать. Она, как добрая русская сердобольная женщина, старалась успокаивать нас, уверяя, что без Москвы нас не расстреляют, Москва помилует, что вот вчера какого-то большого вора по приказу из Москвы подняли наверх (т. е. как помилованного, перевели из нижнего этажа, где помещаются смертники, наверх). Скрывшаяся надзирательница вскоре вернулась с двумя чистыми простынями из парусины и объявила, что сейчас не могла она добыть пи койки, ни матраца другого, ибо все спят. Было около часа ночи…
Поуговаривавши друг друга, решили лечь на кровати оба вместе. У меня появился сильный аппетит кажется и у о. Сергия тоже. Вынули мы с ним провизию, привезенную из суда, и я порядочно поел и как будто повеселел. Оказалась у нас и кипяченая вода, коей и запили. Были оба молчаливы. О. Сергий, оказавшийся превосходным человеком, — за двое суток, проведенных с ним, я доселе Господа благодарю, — часто вздыхал и отрывочно высказывался: «Ну и попались мы!» или: «Бог не выдаст: помилуют...» Я постелил постель. Хотелось помолиться Богу. Я предложил о. Сергию читать молитвы по иерейскому молитвослову, оказавшемуся у него неотобранным. Он сказал, что он привык своеобразно читать молитвы: вставлять свои слова, останавливаться и т. п. Тогда стали молиться каждый своей молитвой. На койке, кроме казенного, у нас ничего своего не было. У о. Сергия оказалась лишь маленькая подушечка, у меня — узелок с провизией сухой, на что мы и положили свои утомившиеся и пули в лоб ожидавшие головушки. Легли рядышком, впротяжку — он к стенке, а я с краю — тоже по соглашению.
Ночью все время горел огонь, и форточка в дверях в коридор была открыта всю ночь. Так требуется для камер смертников, чтобы надзирателю видно было все происходящее в камере, и смертник не мог сотворить чего-либо недозволительного. Спалось мне в эту ночь очень плохо. Того, что сейчас придут и возьмут меня на расстрел, я не боялся ни в эту, ни в следующую ночь, чего боялись, как потом оказалось, мои сотоварищи по несчастью и соседи по камерам. Но что-то тяжелое, грустное щемило сердце; какая-то тупая, неопределенная, словам для выражения не поддающаяся мысль бродила в голове.. Спалось без кошмарных снов, но беспокойно. От пережитых ли волнений минувшего дня, от тягостных ли мыслей или от боязни потревожить как-нибудь соседа я часто просыпался.
Яркое утро. 7 часов. Пробужденные ожившим днем и тюрьмой, невесело встречаем день. Каждый в одиночку — молимся. Молчаливо пьем принесенный кипяток. Начинаю знакомиться со стенной литературой камеры. Печальная, тревожная, не дающая никаких надежд литература. В одном месте читаю: «NNN (имя, отчество и фамилия чисто русские, народные, мною забытые) осужден на расстрел 16 января 1922 г.» Внизу под сим другой рукой подписано: «18 января в 10 часов вечера взят для расстрела». В другом месте такие же две пометки, только с изменением имен и чисел. Ну, подумалось, из сей камеры путь-дороженька в могилу. Куда-то мы выйдем? Сменившаяся новая надзирательница-старушка несколько утешила, что, хотя ни свиданий, ни прогулок не полагается, но передача провизии допускается в определенные дни. Сообщила, что сидящим уже 9-й месяц смертникам-эстонцам разрешают прогулки. «Может, и вам разрешат, похлопочите», — прибавила она. Как наивные дети, и мы всему верили, и за всякую соломинку самоутешения хватались.
Скоро принесли койку и матрац. О. Сергий, не допуская меня, стал ее устроить. Плохое спанье на ней предвиделось безошибочно. Я пытался было взять ее для себя, но он не допустил, сказав, что он — монах и ему не подобает нежиться. Не были мы с ним знакомы прежде, и здесь беседа у нас с ним не клеилась. Каждый думал свою невеселую думу. Только слышались вздохи — больше о. Сергия — призывания Господа, и рука тянулась к крестному знамению. Вздохи его обратили мое внимание, и я, как бы в утешение сам себе, стал говорить, что расстрелов не будет, нас помилуют и т. п., а поэтому что же сокрушаться и вздыхать? Он на это мне заметил, что его вздохи — не столько от душевной тяготы, сколько чисто физиологического происхождения, частые у него и на свободе.
Скоро поутру отперли дверь, и явился незнакомец с тетрадью в руке. Это был приговор по нашему делу, отпечатанный на машинке, тот же самый, который потом в печатном виде был роздан на Шпалерной в ДПЗ. Я было начал читать его, но так тяжело стало, так грустно, что у меня потекли слезы, и я прямо перешел к последней странице, где перечислялись мы, смертники. Я посмотрел на порядок фамилий. Моя фамилия стояла последней. Это меня ободрило, и я повеселел. Я в то время думал, что распорядок помещения нас в списке сделан был не случайно, а в соответствии вине нашей в сознании судей. Значит, подумал я, я считаюсь менее других виновным, и, если станут в Москве миловать, то меня-то непременно помилуют. Я быстро дал свою требовавшуюся на приговоре подпись, за мной то же сделал и о. Сергий.
О. Сергий оказался большим любителем церковного пения, он все про себя что-нибудь напевал. Я пытался иногда подпеть ему, но это не удавалось; мы могли с ним петь только поодиночке. Тогда мы решили прочитать акафист Иисусу Сладчайшему. Потом я попросил о. Сергия помочь мне отслужить панихиду. 6 июля по новому стилю, 23 июня по старому, был день именин моей покойной матери. Акафист вычитывал о. Сергий, я подпевал; панихиду я служил за священника, а он за псаломщика. Конечно, ни облачения, ни кадила у нас не было. Служил панихиду я с особенным настроением. В голове теснилась мысль: еще несколько дней, и я буду вместе с моей матерью, но только там ли, где она?
Между 11—12 часами дня вдруг неожиданно принесли передачу — сначала о. Сергию, а потом мне. В каком бы положении человек ни находился, а телесное в нем преимуществует. Передачи сильно порадовали нас. Правда, здесь радость проистекала не столько из того, что принесли и будут нам приносить съестное, сколько из того, что обо мне узнали, где я, и, значит, хотя несколько успокоились в семье, что и впредь в эти ужасные дни будем иметь возможность осведомляться. Особенно обрадован был припиской от жены при передаче: «Я спокойна, будь спокоен и ты». Разумеется, ее спокойствию я не доверял, но все-таки приписка эта меня осведомляла, что как будто нет дома .тоски, отчаяния, что там как будто бы есть луч какой-то, хотя бы самой маленькой, надежды... Вскоре получил другую передачу от Александры Владимировны. Принес ее добрый служитель, просивший что-то вернуть обратно. Пользуясь временем, я узнал, что принесли ее две барышни. Я решил, что вторая была Аня, и просил передать им, что я не один в камере. Не знаю, передал ли он ей это. Воспользовавшись приходом Александры Владимировны, я написал ей записку и доверенность на получение ею моих вещей из 3-го исправдома.
При передаче из дома оказались присланными книга Иоанна Златоуста, 6-й том нового издания, и книга Мамина-Сибиряка, 2-й том. Я взял сначала Златоуста, посмотрел оглавление и не нашел ничего для себя занимательного. Взялся перелистывать ее, и тут внимание ни на чем не остановилось. Положил книгу... Камера наша столь была узка, что между нашими двумя койками нельзя было свободно двигаться. Нужно было или сидеть или лежать.
О Сергий, пообедавши из принесенного, лег и скоро заснул. Я помялся, походил, еще раз перелистал Златоуста, лег с отрывками бессвязных мыслей в голове и заснул.
Проснулся как будто повеселевшим. Взял Мамина-Сибиряка, надеясь легким чтением развлечься, и эта книга вывалилась у меня из рук, я и пяти строк не мог прочитать. О. Сергий был более счастлив. Он взял у меня Златоуста и сразу напал на слова святителя, поучающего о скорбях и несчастьях, посылаемых от Господа человеку. Златоуст приблизительно так говорил: тебя постигло несчастье, ты просишь Господа избавиться от него, но Господь не внемлет, и у тебя за несчастьем следует новое горе... Знай, что Господь все это делает для тебя, и ты в конце концов от Господа не только получишь избавление от всех горестей, но и сторицей вознаграждение.
Впоследствии, уже в ДПЗ, сколько раз я ни пытался найти это место у Златоуста, так и не мог. Как будто оно куда-то из книги исчезло, или мы в те неповторяющиеся тяжелые минуты читали что-то, чего в книге не было. Тогда эти суждения Златоуста, видимо, ободрили о. Сергия, он их прочитал мне, и мы с ним на эту тему радостно побеседовали. После этого он запел что-то из песнопений Страстной недели. Я грустно заметил: «Услышим ли мы это когда-нибудь?» Но он бодро ответил: «Ты, отче (он сразу стал со мной на «ты»), не отчаивайся! Господь может так устроить, что мы с тобой все это услышим и услышим в храмах наших». Да! Но Господь не судил ему видеть себя оправданным в этих его надеждах. Его нет. А я лишь через два года услышал эти песни...
Часа в 3—4 пришел водопроводчик из вольных, с мальчиком, поправлять водопровод в нашей камере. Ее отперли. К дверям ее подошли человека два из посторонних. Начался общий разговор, — конечно, сначала с утешениями нам, а потом и о всем прочем. Я был рад этому от Бога посланному отвлечению от самого себя. Заметно, что и о. Сергий был доволен. Работа продолжалась часа два-три, к нашему удовольствию и развлечению. Мы позабывали в эти часы о своем положении, имея даже камеру часто открытой.
Часов около семи старушка-надзирательница, таинственно открыв окошечко в двери, передала записку с предупреждением, что передавать нам что-либо запрещено и чтобы мы по прочтении разорвали ее. Записка была от Д. Ф. Огнева иадресована о. Сергию. Огнев в ней приблизительно следующее писал: «Вчера при распределении по камерам двое светских оказались распределенными со священника ми. Но вы, два священника, сидите вместе, а мы с Н. А. Елачичем — двое светских. Теперь, в эти тяжелые дни, быть может, последние в жизни, хочется иметь духовное пастырское утешение. Поэтому разрешите нам с вами разделиться так, чтобы мне быть с вами, а Елачичу — с о. Чельцовым. Жду ответа».
Мне это письмо было неприятно. Мне так нравился о. Сергий, и так духовно отрадно было с ним проводить время, что мой эгоизм был сильнее доброжелательства к Огневу. Заметно было, что и о. Сергию не хотелось разъединяться со мной. Когда я прочел письмо и разорвал его, он спросил меня: «Ну, как, отче, ты думаешь? Тебе не тяжело со мной?». Я ответил, что мне очень не хотелось бы с ним расставаться, но, что, быть может, духовная нужда Огиева и наша к нему братская любовь должны добудить нас разойтись. О. Сергий заметил: «Предоставим воле Божией. Он нас Сам устроит. Во всяком случае, мы с тобой сами ничего не будем предпринимать. Пусть Огнев действует, если это ему нужно». На этом мы с ним закончили этот неприятный для нас инцидент с письмом.
7 июля/24 июня — праздник в честь Иоанна Крестителя. Мы решили служить всенощную. Я был за псаломщика, о. Сергий — совершителем. По окончании ее сели закусить: тут мы подумали, что, быть может, у других смертников наших не было сегодня передачи провизии из дома. Я тогда постучал в дверь и попросил старушку-надзирательницу узнать у наших соседей, кто из них не имеет своего питания. Она нас уверила, что только один Елачич не имел сегодня передачи. Мы тогда с о. Сергием собрали ему от своего и послали. Ответа от него никакого не получили. В нашем нижнем этаже было уже темно. Зажгли огонь и на ночь открыли дверную форточку. Я высунул из нее голову и, обращаясь налево по направлению к камере о. Л. Богоявленского, вызвал его. Тот быстро откликнулся. Я спросил у него, как он себя чувствует и получил ли передачу. Он ответил утвердительно и как будто благодушно. Я намеревался продолжать беседу, но осторожный о. Леонид, боясь через это дерзкое нарушение правил тюрьмы поплатиться, поспешил пожелать мне спокойной ночи. Ответ этот я понял, содержание беседы передал о. Сергию.
У меня появился как бы зуд к говорению, быть может, для самозабвения. Я увидел в коридоре подметающего пол уборщика из арестованных. Подозвал его, дал ему хлеба и стал расспрашивать его о тюрьме. Он мне сообщил, что начальство заметно боится чего-то в связи с нашим привозом сюда, что в городе большое недовольство по поводу столь тяжелого для митрополита приговора, что будто бы на Путиловском заводе неспокойно, что идут толки о насильственном освобождении нас из тюрьмы. Эта весть, теперь кажущаяся совершенно фантастической и чудовищной, тогда мною была принята с большим доверием; было приятно, что о нас помнят, болеют и что-то доброе хотят для нас сделать. Но в то же времи настроение сейчас же омрачилось от быстро явившегося опасения, что эти разговоры городские о нас пожалуй, побудят начальство нозапрятать нас куда нибудь подальше... Прочитали молитву я легли спать. Теперь легли каждый на свою койку, но без подушек и с подрясником вместо одеяла. Легли в полной уверенности, что и в эту ночь нас к расстрелу не потребуют. Хотя, впрочем, нет-нет, да и явится вдруг мысль: а что если по телеграфу уже снеслись с Москвой и оттуда уже получек ответ о нашем расстреле? Но эту мысль я сейчас же старался гнать. И помнится, спал хорошо.
Утром совершили обедницу, но без причащения Св. Тайн за неимением их. День потянулся как-то очень длинно я мрачно-скучно. Мы с о. Сергием не раз задавали себе вопрос: почему этот второй день сидения так тяжело и уныло длился, и ответа не давали. Быть может, вчерашний день разнообразился, а в этот день было одно совне явление — это передача о. Сергию. Чтение тоже совсем не давалось. Впрочем, о. Сергий что-то листал и даже читал из Златоуста. Я снова подержал в руках Мамина-Сибиряка, и взялся за иерейский молитвослов, и какие-то псалмы машинально — более глазами, чем умом и сердцем — почитал. Больше ходил-топтался по своей узенькой и коротенькой камере. Думы невольно летели к дому и к родным. Какая-то жалость осиротевших своих сжимала сердце, слезы подкатывались к глазам и сдавливали горло. О. Сергий часто вздыхал, я ему вторил. Я что-то заговорил о молитве. О. Сергий заметил: «Что значит наша молитва? Вот там (показал рукой на окно, а через него на улицу, т. е. у наших родных) — там теперь горячо молятся. Их молитву Господь услышит...» Я как-то неосторожно заметил о. Сергию, что ему нечего особенно тужить и волноваться — он один. На это он резонно ответил, что, Бог весть, где положение труднее: мое ли, у коего, хотя и малые дети, но есть и подростки, на коих могут покоиться надежды, или его, у коего две стареющие сестры без службы и средства к жизни, всю надежду только в нем имеющие.
Часов около трех дня, когда мы уже закусили, вдруг открывается дверь камеры, входит какое-то тюремное начальство и, обращаясь к обоим нам, говорит: «Собирайте ваши вещи, вы через полчаса переправляетесь в ДПЗ на Шпалерную». Как? Почему? Зачем? На эти вопросы нашей удивленной от неожиданности мысли не дается никакого ответа. Мы в полном недоумении. А так как человеку, находящемуся в горестном положении, все хочется объяснить в лучшую, приятную для себя сторону, то и мы начинаем думать успокоительно для себя. Значит, решаем, расстрелы отсрочены, иначе зачем бы перевозить отсюда, откуда возят только на полигон. Конечно, явилась мысль, что эти слова о перевозе на Шпалерную — не пустой ли предлог для успокоения, не везут ли на расстрел? Но против этого говорило время — день, ибо на расстрел возят ночью.
Быстро собрали мы вещи. Из оказавшейся излишней провизии кое-что мы отдали нуждающимся арестантам для раздачи и, почти одетые в дорогу, стали поджидать. Тут совершенно неожиданно для меня о. Сергий обращается ко мне с такими словами: «А все-таки, отче, неизвестно, куда нас повезут. Также неизвестно, как мы станем жить и что с нами приключится, а поэтому поисповедуй-ка меня...» Я снял с груди свой священнический крест, положил его на подоконник, как бы на аналой, через шею спустил полотенце двумя концами на грудь наподобие епитрахили и приступил к исповеди, прочитывая выступавшие в памяти исповедальные молитвы. О. Сергий исповедался искренне, горячо и серьезно. Это его была последняя земная исповедь... После я попросил его исповедать меня. Исповедались, поплакали оба, уже не стесняясь друг друга а слезах.
Вскоре явилось то же тюремное начальство и предложило нам обоим следовать за нам. В коридоре мы встретили Богоявленского, вместе с нами отправляемого. Повели черным ходом, через сад. В дверях тюрьмы нас передали каким-то двум военным, кон должны были везти нас. Позади сада нас посадили в закрытый автомобиль — очень тесный, так что о. Леониду пришлось сесть на корточки, упираясь на узлы багажа нашего. Один из наших провожатых сел рядом с шофером, а другой — вместе с нами, напротив меня. Дорогой я все время смотрел в окно автомобили в тщетной надежде, не увижу ли кого-либо из знакомых, но никого не видал.
О. Сергий угощал всех нас, в том числе и конвоира нашего, свежими, только что принесенными ему ягодами клубники. Завязался беспорядочный разговор с конвоиром. На начальный отказ того взять ягоды о. Сергий заметил, что ягоды не отравлены, ибо и мы не думаем еще умирать. Тот ответил, что нас в Москве помилуют, впрочем, прибавил, что это его мнение. На наш вопрос, почему нас переводят на Шпалерную, он хитро, но успокоительно ответил, что в 1-м исправдоме очень тесно, а начинаются большие процессы о налетчиках, и для имеющихся явиться новых «смертников» нужно приготовить места; при этом прибавил, что на Шпалерной нам будет спокойнее. В последнем он был совершенно прав: на Шпалерной покой был самый настоящий, могильный... Во время переезда меня занимала подозрительная мысль: а на Шпалерную ли нас везут?! И успокоился, когда остановились на месте назначения.
На Шпалерке пропустили нас троих вместе обычным порядком через канцелярию и повели куда-то далеко-далеко нижним коридором. Ну, думаю, посадят где-то внизу. Сюда, по рассказам, в темные сырые камеры убирают нежелательный людской отброс, с коим хочется поскорее разделаться. Идем все время при общем молчании. Тишина всюду убийственно невозмутимая, только стук от ног гулко раздается по сводам тюрьмы. Нет ни одного человеческого лица, даже надзиратели куда-то попрятались. Это полное безлюдие мне тогда показалось неслучайным. Конечно, надзиратели оставались на своих местах — в очень уютных уголках-стрелках, где их почти совсем не видно, но откуда они могли видеть все в пределах ими охраняемых камер. Подошли вплотную к какой-то стене и стали подниматься наверх по узкой лестнице с частыми небольшими площадками, забираясь все выше и выше. Значит, не в сыром подвале буду кваситься. Поднялись на 4-й этаж. Опять стала в голову заползать тяжелая мысль: здесь, думаю, вероятно, система распределения строгостей к арестантам та же, какая показалась мне в 3-м исправдоме: важных преступников поселяют в верхних этажах. А нам, смертникам, так и нужно быть ближе к небу, куда скоро придется переселяться и о чем надо почаще подумывать. В тюрьмах мне всегда нравились верхние этажи: больше воздуху и света, виднее небо и от всего этого как-то привольнее на душе.
На 4-м этаже привели нас к надзирательскому столу. Устало, тихим полушепотом, но повелительно и твердо предложили нам развязать наши узелки и показать свои вещи. Начался обыск и такой, какому я еще нигде ни разу не подвергался — самый настоящий: белье все распускалось и рассматривалось до последней ниточки, пища вся перерезывалась, переламывалась и переворачивалась до последнего атома, ни одной газетной обертки не оставили, все выбросили на пол; в конверте у меня был завернут сахар с чьей-то надписью: «Будьте здоровы, живите...», и это было прочитано, но после долгого раздумья возвращено мне; отобраны были листы чистой бумаги, кем-то переданные мне на суде, и карандаш, врученный мне при прощании Павлушей, отнята была книга Мамина-Сибиряка «Рассказы», том 2-й.
В конце концов, всего меня ощупали, вывернули все карманы, сняли сапоги и чулки, а с Новицкого, как потом узнал, и, вероятно, со всех светских, спустили брюки и оставили в одном нижнем белье.
Обыск этот, такой цинично бесцеремонный, да еще после обыска, только два дня назад бывшего в 1-м исправдоме, произвел на меня самое гнетущее впечатление. Ну, думалось, по такому началу нельзя ожидать ничего доброго на Шпалерке. А тут в довершение тяжести душевной вдруг снизу послышался чей-то горький, жуткий плач-крик, как будто кого-то били, а за ним послышались шаги бегущих, и... все вдруг сразу смолкло. Так, пожалуй, здесь и бьют?! А с нами-то, конечно, церемониться не будут — лезли один за другим досадливые предположения...
Со мной покончили обыском прежде других. «Куда его?» — слышу, спрашивают старшего. Тот посмотрел в какую-то запись и пробурчал: «В четвертый». Это, оказалось, меня нужно было оставить в четвертом этаже. И здесь, при разбивке нас восьмерых, из 1-го исправдома привезенных, и двух архиереев, здесь содержавшихся, была соблюдена самая строгая предусмотрительность. Нас разместили по разным этажам, в одиночные камеры, далеко не соседние, чтобы не могли найти какие-либо способы для переговоров между собой. Только, вероятно, по какой-то неосмотрительности или по технической невозможности поступить иначе, Елачича и Огнева посадили рядом, о чем они узнали в конце своего сидения и чем не воспользовались. Меня, Елачича, Огнева и Ковшарова поставили на 4-м этаже, о. Сергия, Богоявленского и Чукова — в 3-м этаже, а Новицкого спустили во 2-й этаж, где уже сидели два архиерея. Конечно, об этом распределении мы тогда ничего не ведали и узнали о нем уже после, по прибытии своем во 2-й исправдом.
Ввели меня в камеру, номера которой я не заметил. Камера, как камера: сажень ширины, два длины. Налево от двери прикрепленная к стене железная кровать с очень потрепанным мешком, в котором когда-то была солома, но от которой остались теперь только незначительные напоминания. Можно сказать, что железные переплеты кровати были покрыты только мешком, и ложе мое не хуже было ложа любого древнего пустынника; железные переплеты врезывались больно в тело и приходилось немало поворочаться, прежде чем приспособить свою бренность к успокоению сонному. Приведший меня надзиратель сам обратил внимание на убожество моего ночного упокоения и сказал, что постарается похлопотать о перемене мне его. За неделю до оставления мною особого яруса другой надзиратель, тоже сам, по собственному почину, пообещал мне улучшение моей постели, но тоже ничего из этого не вышло. Сам я не возбуждал дело о матраце, сначала думая, что недолго — недели две, не более — придется пробыть в этой камере, а по прошествии этих недель, каждую ночь ожидая вывода из этой камеры или на тот свет или в другое место. Так и проспал на этом ложе 42 ночи.
Напротив койки помещался у другой стены небольшой — четверти в полторы в квадрате — железный стол с таковым же стулом, оба, крепко прибитые к стене. За столом, в углу самом, у окна — клозет с умывальником и водой в баке наверху. У входной двери на стене вешалка с двумя крючками и маленькая полочка. Эту обычную камерную обстановку я сразу даже не приметил, рассмотрел ее лишь впоследствии. Хотя и видел, что койка лишь одна, но почему-то стал ждать, не посадят ли кого-нибудь ко мне, и все прислушивался, не ведут ли кого-либо из наших ко мне или не сажают ли по соседству. Чтобы лучше слушать, я прекратил начатое было естественное в такие минуты прохаживание по камере и сел на конец койки, поближе к двери. С настроением поджидания соединилось какое-то душевное успокоение от того, что положение в тюрьме определилось, по крайней мере, недели на две, да и солнышко, ярко светившее, вносило в душу мир и благодать. Во все свои сидения в тюрьмах я всегда боялся нижних — темных и сырых камер, поэтому и здесь был доволен высоким этажом и солнцем в камере.
Как я провел первый день на новом месте, я забыл. Помню, что страха за жизнь не испытывал, опасений насчет репрессий в тюрьме пока не было. Беспокоило лишь то, что тишина в тюрьме стояла абсолютная: не только никто не подходил к камере, но не было слышно ничьих голосов, ни шагов. Помню лишь, что сильно меня занимала мысль добыть из 3-го исправдома оставшееся там мое имущество и священные книги. Я позвонил надзирателю, этот очень осторожно и неохотно посоветовал мне подождать: он-де, пойдет, справится, что и как предпринять. Через час приносит клочок бумажки и карандаш и предлагает на имя начальника ДПЗ написать заявление с просьбой истребовать ему для меня мои вещи, точно и подробно переписав их. Через 15—20 минут он уносит от меня написанное заявление... Кажется, в течение этого дня я больше ходил с отрывками самых бессвязных мыслей…
Внешнюю жизнь можно охарактеризовать одним словом «изоляция». Ни свиданий, ни прогулок, ни выходов из камер. Даже двери камеры открывались лишь два раза в неделю — для выпуска меня в комнату отделенного надзирателя, чтобы взять мне присланную из дома передачу,— это по понедельникам и пятницам от 9 до 11 часов ночи,— и по средам, чтобы в открытую надзирателем дверь передать ему заранее мною приготовленную обратную передачу. Даже форточка в двери всегда была на запоре совне, из коридора, откуда закрывался тяжелым чугунным футляром и стеклянный глазок в двери. Надзиратели не имели права разговаривать с нами. Бывало, позвонишь, подойдет надзиратель к двери, станет как-то полубоком к тебе, чтоб его лица не было видно, на вопрос ответит неохотно, односложно, и уж сам ничего не спросит и тем более ничего своего не скажет. Я сам не видел, но потом мои соузники передавали, что у камеры каждого из нас стоял часовой с ружьем; он всегда подходил к двери, как только форточка открывалась для подачи нам пищи или кипятку. Чуков даже слышал, как при смене, вероятно, часового разводящий давал ему наказ стрелять «не попусту». Часовые стояли не более двух-трех дней, до получения из Москвы телеграммы о задержании приведения в исполнение приговора о расстреле нас.
В эти первые дни очень часто,— впоследствии гораздо реже,— за нами, за нашим поведением в камере наблюдали. Вдруг, бывало, отодвинут чугунный заслон с глазка-оконца в двери, и не успеешь подойти к двери, как уже наблюдающий глаз исчезает и заслон задергивает оконце. Зачем эта слежка была нужна — обычный ли это порядок из опасения самоубийства или переговоров с соседями и даже побега, или специально за нами следили,— сказать не могу. На первых порах эти заслонные щелкания сильно нервировали и заставляли всего опасаться, а потом я к ним привык и почти уже не обращал на них никакого внимания.
О нас же эти наблюдения могли одно лишь по начальству доносить: все-де молятся и по камере ходят. Насколько сильно подействовала на надзирателя молитва митрополита Вениамина, об этом свидетельствует такого рода донесение со Шпалерной на Гороховую, что нам передавали официально осведомленные о сём лица: «Митрополит молится по 14-ти часов в сутки и производит на надзирателей самое тяжелое впечатление, почему они отказываются от несения ими их обязанностей в отношении к нему». Не этим ли приходится объяснять то, что за последние две недели были у нас частые перемены в надзирателях?
Сидение без гуляния тяготило больше дух: им сильнее подчеркивалось твое исключение, как бы заживо, из списка людей сего мира и дела. Тело же пользовалось воздухом в достаточной степени от открытого окна. Я его не закрывал ни на одну минуту, даже боялся и не знал, можно ли его закрывать. Да и погоду Господь Бог послал в то лето самую для узников благоприятную. Жаркое солнышко сменялось частыми дождиками и не было ни жары с духотой, ни холода с сыростью. Благодаря Бога за такое благоприятное для нас растворение воздуха, я часто думал об огородных моих работниках (семейные мои имели в то лето до 100 сажен земли под огородом) и жалел, что им приходится часто мокнуть и зябнуть и что тяжелые их труды не покроются желательными результатами. Так оно и вышло: на огородах многого не выросло от излишней сырости и мокроты.
Итак, всякие разговоры с нами надзирателям были запрещены. Но люди — всюду люди. С одной стороны, они любопытны и потому любят порасспрашивать, особенно при беспрерывном суточном окарауливании, в мрачном одиночестве и жуткой тишине; с другой стороны, по душе-то мы, русские, все хороши, доброжелательны и сердечны: душа влечет оказать или даже сказать что-либо доброе, приятное, утешительное, особенно смертнику. И на Шпалерке, дня через два, по водворении меня туда, надзиратель сам, без моего к нему вызова, открывши дверную форточку, шепнул мне: «Не бойтесь, расстрелов не будет». «Почему Вы так думаете? Разве известно что-либо?»— спросил я изумленный и обрадованный. «Да так, по всему это видно». Хотел я его что-то еще спросить, но он быстро захлопнул дверцу, прибавив лишь: «Будьте спокойны...» Пустяшное известие, ничего в нем определенно приятного не было, а как радостно после него чувствовалось. Естественно, появилось бодрое настроение и какая-то, правда, не долгожизненная уверенность в благоприятном решении нашего дела.
Особенно сердечно относились ко мне две надзирательницы, одна сменявшая другую. Обычным предварительным к надзирателям подходом стал, вскоре по водворении, подарок им чего-нибудь съедобного из изобилия приносимой провизии. Сначала они отказывались принимать, но моя настойчивость и предложение, что, если не хотят взять себе, то пускай передадут голодающим арестантам, победили их сопротивление. А даешь булку, невольно что-нибудь спросишь и ответ получишь — очень уклончивый, данный полушепотом и после предварительного внимательного обзора кругом, нет ли кого-либо подсматривающего или подслушивающего. У них же всегда первым вопросом бывало: откуда я, от какой церкви, есть ли у меня и какая семья. Одна из надзирательниц даже стала мечтать, как бы помочь мне установить сношения с семьей. Другая, вероятно, в желании мне оказать приятное, сообщила, что сама прочитала в газетах о состоявшемся будто бы помиловании нас. Конечно, сообщалось все это отрывками, в микроскопических дозах. И ждешь, бывало, двое суток, когда она на третьи сутки явится снова на дежурство, чтобы узнать и порасспросить обо всем поподробнее. А за это время радость от первичного сообщения заменяется тоской от разложения его на составныечасти, полные печали и безнадежности.
Очень любовно относился ко мне один из надзирателей, незадолго до выхода из особого яруса приставленный к нам. Недельки за две до выхода отсюда, вечером, он открыл форточку и тихонько сообщил, что сейчас он читал в газетах о нас, о том, кого не помиловали, и что моей фамилии там нет. «Да знаете ли Вы мою фамилию?»— спросил я его. Но он быстро захлопнул форточку, сказав, что сейчас здесь, надо думать, около моей камеры, начальство и что он потом ко мне зайдет. Восторг и радость. Но сейчас же,— эти минуты хорошо сохранились в моей памяти,— они сменились противоположным настроением. Думалось, значит будут и расстрелы? Быть может и я среди обреченных? Ведь он (надзиратель) моей фамилии не знает. А как тяжело на душе от мысли что все-таки кого-то из нас расстреляют, кого-то больше не придется видеть. В эти минуты даже любовь к собственной шкуре с эгоизмом как будто замолкли и притаились. Близость насильственной смерти другого не только умаляет, но даже почти совершенно прекращает радость от сознания собственной безопасности.
Часа через два, действительно, надзиратель явился у моей форточки и сообщил, что сейчас читал газету и там помечен непомилованным митрополит и еще трое. Но кто же? Фамилий он не запомнил, но опять уверял, что моей нет. Я начинаю перечислять ему фамилии смертников. Новицкий?—Да. Ковшаров?— Да. Этих я и в ранних своих предположениях всегда считал в первых номерах к расстрелу и не потому, конечно, что они виноваты,— они так же невинны, как и все другие,— а потому, что на них всегда обращалось особенное внимание судей наших, как будто бы главных виновников. А кто же четвертый? Я сам не мог назвать наверное фамилии. Говорю надзирателю: Чуков?— Нет. Богоявленский?— Нет. Чельцов?— Нет. Елачич?— Вот, вот, он,— слышу я. И мне казалось, что Елачичу, как секретарю Правления, естественно быть среди расстрелянных. Но, может быть, надзиратель мою фамилию плохо разбирает. Переспрашиваю, уверяет, что меня нет.
Самыми приятными, страстно ожидаемыми днями на Шпалерке были понедельник и пятница — дни получения передач. Нетерпеливо они ожидались не ради получения пищи, но из ожидания получить весточку о своих дорогих: о их настроении, о переживании ими горя и что-либо, хотя между строк, прочитать и о своей судьбе: не известно там чего-либо, не напишут ли о сем... Думаешь, гадаешь, что тебе могут написать и что хотелось бы прочитать в их письмах. Часа за три–пять, бывало, начинаешь трепетно поджидать, когда щелкнет ключ в двери и тебя позовут к отделенному надзирателю за передачей. Обдумаешь, как читать письмо, откуда его чтение начинать: с начала ли, где идет перечень посылаемых вещей, или со средины, где что-либо сообщалось о семье. Особенно эти обдумывания были важны по истечении двух недель сидений в ДПЗ, и вот почему.
В течение первых двух недель еще не ожидалось никаких определенных вестей из Москвы. Затем — в эти же недели я получил точные сведения об Аниной поездке в Москву (о чем речь ниже) и ее результатах. Поэтому и в дальнейшем хотелось знать наверное и подробнее, что и как решено о нас в Москве. А письма семейных в первой, самой длинной и обстоятельной своей части, меня не удовлетворяли. В ней подробно перечислялось, что и в каком количестве пересылалось мне из провизии. Проверить полученное по списку письма никогда не удавалось. Вся провизия передавалась не в семейной упаковке, а в развернутой, разрезанной, смятой, набросанной в какую-то неопределенную кучу, где сахар лобызался с селедкой, булки не брезговали соседством, и притом самым близким, с киселем и т. п. Да и не давали времени просмотреть получаемое, побуждая скорее взять и унести из комнаты отделенного, где провизия выдавалась, все так, как было проверкой все набросано. Дадут записочку препроводительную к передачи со многими помарками и заставляют здесь же в комнате ее прочитать, да все торопят, чтобы поскорее читал, забирал свою поклажу и убирался в свою камеру.
Начинаешь читать письмо в нервном настроении, и в такой тяжелой обстановке в глазах замелькает перечень присланного. Пропустить его боишься из опасения, как бы в нем не было вкраплено от семейных чего-либо интересного и важного для меня, вкраплено с целью замаскировать сообщение перечнем провизии. И только глазами перейдешь к тем строкам — паре, другой, кои в конце письма уцелели от карандаша и ножниц тюремной цензуры, как письмо берут из рук и тебя выпроваживают. Бывали случаи, когда и маленькой записочки не удавалось прочитать до конца. А между тем, хотелось и не раз, а 20 раз прочитать каждую фразу, вдуматься в Каждое слово, найти в нем какой-то скрытый смысл и содержание. Думалось, что, при известной семейным строгости тюремной цензуры и при невозможности отсюда для них писать открыто и явственно, они между строк или иносказательно и метафорически сообщают мне, что нужно в письме найти, понять и раскрыть. Поэтому хотелось все слова и фразы письма запомнить, заучить даже самое расположение не только слов в фразах, но и порядок фраз самих в письме.
Понятно отсюда, почему, бывало, приходилось заранее обдумывать, откуда и как начинать читать письмо, чтобы важнейшему в нем уделить большее время и не досадывать сильно, если не успеется все прочитать. Впоследствии я решал начинать чтение письма со средины его, где по показанию глаз кончался перечень. Но, помнится, ни разу не выполнил этого решения. Возьмешь в руки письмо, в глазах зарябит, разволнуешься, внимание охватится волнением, мысль разбегается и… мало в голове остаётся от прочитанного. Придешь в камеру, начнешь воспроизводить дорогое-важное, что как будто бы прочел в письме и ничего определённого не установишь и не выяснишь: как будто бы вот это прочитал как будто этого там понять нельзя. Хочешь вспомнить фразу или отдельное слово, и тут ничего не выходит, и тяжело-тяжело станет на душе от того, что ничего определенного из письма не вынес, не получил.
И снова начинаешь обсуждать, с чего и как тебе в следующий раз начинать чтение письма.
Получение писем от семейных — это самое отрадное и веселящее в тюрьме. Я не знаю положительно никого из арестантов, кто бы горячо не ждал этих писем, не читал их страстно и нервно, не хранил бы их, как большую для себя драгоценность. В них радость в тюремной жизни, чрез них — связь с миром и беседа с дорогими лицами, а в такой изоляции, какова в особом ярусе, письма — это всё. Быстро бежишь за ними, а тебе их даже в руки не дают, а предлагают читать по положенному на столе и поддерживаемому руками начальства, да ещё ежесекундно поторапливают тебя. Ещё задолго начинаешь предполагать, загадывать, что тебе напишут. Эх, думаешь, если бы тебе написали вот это или то-то. В своих загадываниях составишь содержание почти всего ожидаемого письма. И как после этого тяжело чувствовалось, когда в письме полученном прочитаешь лишь перечень присланного, а остальное в письме окажется или умело зачеркнутым или совершенно оторванным, или отрезанным.
Конечно, самым интересным в письме были хотя бы самые прикровенные сообщения о ходе нашего дела в Москве и о благополучии всех семейных. И не удержишься, бывало, от слез, когда никаких вестей об этом в письме не найдешь. Особенное значение я придавал припискам в письмах от семьи слов: «будь здоров» или «будь спокоен», или даже «мы живы и спокойны». Если, думалось, они желают мне здоровья и спокойствия, то значит, они этим самым говорят мне хранить себя, — но для чего? — только, конечно, для дальнейшей жизни; значит, им что-то известно доброе по ходу нашего дела в Москве. Если же говорят о своем спокойствии, то и это знак добрый — значит, нет у них волнений за мою жизнь. И как бывало тяжело, когда этих приписок в письмах не содержалось. Значит, думалось, дома известно что-нибудь недоброе обо мне. Тут как раз почему-то случилось, что письма два-три ко мне писались не женой (как это обычно бывало и должно было быть), но дочерью Шурой или даже мальчиком-сыном Сёмой. Ну, думалось, вести из Москвы определенно дурные, жена слегла в постель и даже писать от горя не может. Впрочем, в Шурином письме на меня ободряюще подействовала фраза: «чаще меняй бельё». Чаще меняй, — значит, видят твою жизнь продолжающейся и в дальнейшем. Правда, пишет Шура — значит, мама больна. И тут приятное о себе соединилось с мрачным о маме и тоже, следовательно, о себе.
Кажется, о письмах семейных ко мне всё сказал. Теперь о своих письмах. Писать домой — целое событие. Заранее обдумываешь, как бы подобрать такие слова и фразы, расположить бы их в таком порядке, чтобы в самых обыденных выражениях высказать нужное, свое сокровенное, чтобы сообщения и вопросы свои, более или менее щекотливые и способные вызвать у цензуры подозрение, вкрапить в перечень предметов обратной передачи и сделать так, чтобы дома поняли, а в тюрьме пропустили. Несколько раз, бывало, в уме своем пересоставишь письмо своё.
Я с давних времён даже в научных своих работах не прибегаю к черновикам, а пишу прямо, что называется, набело. Сначала разработаю в уме свой план самый общий, потом разобью его на мелкие части и, когда не только продумаю мысли, но подберу примерно и фразы, тогда приступаю к письму. Так и в письмах из тюрьмы — по нескольку раз в голове пересоставишь письмо, подбирая нужные слова, устанавливая фразы на нужном и для нахождения по назначению, и в безопасном месте... После этого звонил к надзирателю, он приносил карандаш и бумагу, и я писал записку.
Когда составлял содержание письма и писал записку, настроение в это время у меня бывало спокойное: за этой нужной работой мысли отвлекались от мрачной действительности предсмертного бытия и мною овладевало состояние покоя работающего человека. Но как начнёшь собирать бельё и посуду для отсылки домой, то как будто собираешь в дальнюю дорогу дорогих сердцу. И грустно станет на душе. Хотя обрывками, хотя и не в легко ясно сознанных фразах и понятиях, в голове начинают носиться полумысли: вот-де, вы — вещи мои — идёте домой, а я остаюсь здесь. И вы покидаете меня, и я остаюсь в ещё большем одиночестве. Этого настроения я не переживал никогда ни прежде, ни после — ни в одной тюрьме. Там была всегда надежда, что рано или поздно и я буду дома; здесь — в особом ярусе — эту надежду я боялся иметь, она мне казалась обманчивой мечтой.
Первая передача домой пошла без моего письма. Я еще до перевозки в особый ярус слышал, что на Шпалерке есть какое-то особое ужасное отделение, где, между прочим, не разрешается писать писем. Оказавшись здесь в такой строгой изоляции, с такими ужасными надзирателями, я решил, что это и есть самое строгое, суровое место. Но все-таки, приготовляя обратную передачу, я спросил дежурного надзирателя, можно ли при передаче послать письмо. Надзиратель, еще молодой человек, очень суровый и грозный, ответил мне, что он не знает и спросит отделенного. Через некоторое время приходит и говорит, что никакой записки писать нельзя. «Как же мои вещи пойдут? Ведь их могут перепутать с другими?! Разрешите хоть фамилию написать»,— просил я. Но услышал в ответ, что «мы уже знаем, как сделать». После этого разговаривать было бесполезно. Да дня за два до этого разговора я уже получил подобный же отказ.
Я было вздумал узнать, нельзя ли послать письма домой. Пользуясь дежурством доброго надзирателя, казалось, сочувствовавшего мне, я, вызвав его звонком, спросил, можно ли написать и послать письмо домой. Он сразу и категорично ответил мне: «Ну, конечно, можно». Я попросил его принести мне карандаш и открытку. Уходит. Через 15—20 минут возвращается и говорит, что никаких писем мне не разрешается писать. «Почему»— спрашиваю. «Вы сами знаете, к чему Вы присуждены»,— огорошивает он меня. Сильно он смутил меня этим своим ответом. Ну, думаю, с жизнью все покончено, ты — живой мертвец. Прощайте, родные; прощай, работа среди людей. Едва ли увижусь с кем-либо на земле... Вот поэтому отказ передать письмо прн обратной передаче мне показался самым естественным, и я просил о нем больше так, для очистки совестя. Я знал, как тяжело будет семейным не получить от меня ни одного слова, мною написанного. Мне еще тяжелее было переживать воображаемое страдание родных от неизвестности обо мне. Но приходилось переживать.
Я бы и при следующей передаче не решился бы писать, если бы отделенный при получении мною от него передачи не сказал мне, что я могу писать письме домой с перечнем обратно присылаемых домой вещей, а о себе могу написать только, что я жив и здоров. Чем объяснить это разрешение, я не знаю. Думаю, что время свое берет и со всем примиряет. Но как легко стало на душе, когда выяснилась возможность писать письма-записочки домой. Я знал, какое успокоение они внесут в невыразимо тяжелое горе семейных. Мне захотелось послать домой уже целую открытку по почте. Я забыл или, вернее, не хотел думать, что и в открытке я большего написать не могу, чем что пишу при передаче, что если и напишу что иное, цензура тюремная вычеркнет. Мне хотелось просто писать и писать.
И вот, воспользовавшись однажды при получении передачи добрым расположением отделенного, я спросил его о возможности для меня послать «домой открытку. Он ответил утвердительно и даже, как показалось мне, сочувственно ко мне отнесся. Открытка у меня была с собой в книжке Златоуста, случайно уцелевшей от обыска. Я и написал одну за другой две открытки. Написать-то разрешили, но отослать-то не отослали, хотя в письмах я так был осторожен и официально сух и короток, как только возможно.
Во всякой тюрьме, а в одиночке тем более, следят за чистотой камеры. На.другое же утро по водворении в камеру я был опрошен: нет ли у меня в камере мусора. Дня через два пришел отделенный и довольно любезно приказал соблюдать чистоту. На мои слова, что у меня чисто, он пальцем указал на пыль и паутины, оставшиеся мне от моего предшественника по камере, и сказал, что нужно ежедневно мыть пол и прочее. Переслал он мне тряпку, и принялся я за мытье. Как будто я этим делом прежде никогда не занимался и не знал, как к нему приступить. Налил в чайник воды из умывального крана и обильно полил пол и стал тряпкой вытирать. Но дело не клеилось: вода по асфальтовому полу переливалась с места на место, а пол не приобретал ни чистоты, ни лоску. Это было в среду. В субботу повторил то же, но уже вышло лучше. Воды на пол не лил, а лишь мокрой тряпкой вытирал пол. Снял подрясник, засучил рукава рубашки. Но как обращаться с тряпкой? Я видывал дома Шуру (дочь), как она мыла пол, становясь на колени. Мне это показалось неудобным, я счел за более целесообразное нагнуться и в согбенном положении вытирать пол. Особенным неудобством было вытирать пол за койкой. А как быть с клозетом? Решил и его мыть. Сначала как будто и неприятно было, но вспомнил «маму» (жену), которая едва ли не ежедневно совершала эту операцию. Принялся мыть и очищать клозет во всех его частях. И то, как оказалось впоследствии, не до всего тряпицей дошел. Дня за три до выхода моего из этой камеры зашедший ко мне надзиратель-отделенный во многих местах у клозета и вверху его нашел пыль, паутину и грязь и сделал надлежащее внушение.
Мытье пола доставляло мне возможность уйти от самого себя, забыться. Физический труд, действительно, лучшее лекарство от умственной неврастении, он успокаивает и ободряет. Каждый раз, приступая к мытью пола, я думал: ну, это — в последний раз, до следующего мытья я в этой камере не доживу. И как-то после мытья пола снова становилось тяжело. Ну, вымыл пол, чисто и свежо в комнате. А что это мытье пола не есть ли как бы обмывание самого себя как покойника? Если не с чистым телом, то от чистой камеры не уйду ли я к Господу? И начнет, бывало, фантазия работать... Пол мой недолго сохранял чистоту и свежесть: быстро от жары высыхал и снова покрывался несущейся со двора через окно пылью.
Были на Шпалерке и радости и притом неожиданные. Я уже писал, что 5 июля, уезжая из бывшей военной тюрьмы (3-го исправдома) в трибунал, я все свои вещи оставил там. Из 1-го исправдома я писал письма с просьбой переслать мне вещи, но ничего не вышло. На другой день по вселении на Шпалерку я опять задумал добыть-вернуть свои вещи. Видно, живой, в каком бы положении ни находился, все думает о жизни, как бы смерть близко ни стояла за спиной у него. Недаром чахоточные накануне явно и для них самих обозначившейся смерти своей любят мечтать о зеленой травке и строят планы на далекое будущее. Так и я. О предстоящей, возможно скорой смерти и думать не хотелось. У меня почему-то была почти уверенность, чго раньше истечения двух недель со дня объявления приговора нас не казнят. В это время и нужно готовиться к смерти.
Это приготовление к смерти с первого и до последнего дня у меня распадалось на два пункта: нужно духовно к смерти себя приготовить и, во-вторых, собрать свои все вещи и устроить так, чтобы все их можно было домой отослать и ничего нужного и ценного в тюрьме не осталось. В силу этого последнего пункта я всегда волновался, когда мне из дома пересылали какую-нибудь ненужную мне вещь или нетребующуюся лишнюю пару белья. Для духовного приготовления мне нужен был молитвенник с Евангелием и запасные Св. Дары, что было оставлено в 1-м исправдоме. Что же нужно было предпринять, чтобы получить все это? Через частное письмо достать их и нечего было думать. Я вызвал надзирателя. Он посоветовал мне написать официальную записку на имя начальника ДПЗ с перечислением оставленных и подлежащих к пересылке вещей.
Написал я в субботу. И какова была моя радость, когда в воскресенье среди дня, забыв совершенно про свое письмо и, во всяком случае, не ожидая столь быстрого его исполнения, я вдруг увидел растворившуюся дверь, и мне передали знакомый узелок. Расписавшись в его получении, я стал перебирать присланное. Книжка-каноник оказалась здесь, а Св. Даров не было. Как тяжело почувствовалось отсутствие их! Что ж, неужели и умереть придется без причащения? Неужели Господу неугодно, чтобы я причащался? Или я такой уж недостойный иерей? И сейчас против этих мрачных мыслей восставали противоположные. А не говорит ли Господь чрез эту непересылку Св. Даров, что я еще поживу и на свободе причащусь? В борьбе противоположных суждений и настроений работали голова и сердце мое.
Так и в этом случае, так и в других. Что бы ни услышал или ни узнал бы радостно-приятного, скоро же это начали омрачать и изгонять из сознания обратные, тяжелые мысли и предположения, и наоборот. Я не знал, что и предположить в объяснение неполучения Св. Даров. И только в ноябре 1922 года от посаженного уже во 2-м исправдоме в 39-ю нашу камеру помощника начальника 3-го исправдома я узнал, что, когда там было получено из ДПЗ требование на мои вещи, то, собирая их и просматривая, нашли и мешочек со Св. Дарами, узнали их и не решились почему-то отослать их, а оставили их там положенными в канцелярии в шкаф. Там они остаются и доселе. (К моему сожалению, Св. Дары там не сохранились. Когда я в декабре 1923 г. по выходе из тюрьмы обратился в 3-й исправдом за ними, их мне нигде не могли отыскать. Они пропали)
Не получив Св. Дары, а только спальные принадлежности, я и им был рад. Я мог теперь спать уже с подушкой, простыней и одеялом — по-человечески, чего лишен был почти целую неделю. Опять тело превозмогло душу.
Хорошо припоминаю, что, получив каноник и Евангелие, я вторую половину воскресенья — первого воскресенья 40-дневного сидения в ДПЗ — провел в бодром настроении. Я занялся чтением Евангелия и молитвой. До сего в ДПЗ я мог молиться кратко, прочитывая лишь наизусть выученные молитвы. Теперь я прочитал акафист Иисусу Сладчайшему, а вечером — канон Божией Матери и все вечерние молитвы. И легко, легко было на душе. Молитва в ДПЗ доставляла мне величайшее утешение и подкрепляла. Только там я познал истинную молитву и молился всегда так, как именно нужно, чтобы молитва доставляла успокоение и духовно удовлетворяла. Тяжело, тяжело сделается на душе, слезы держатся на глазах, станешь молиться, никак себя не заставишь вникать в смысл читаемых слов молитвы и в руках и в ногах ощутишь как бы тяжесть, усталь и боль, в голове кружение. Но все. это стараешься преодолеть и мало-помалу молиться становится легче, а потом молитвой совсем увлечешься, забудешься, и даже кончать ее не хочется. И уходишь с молитвы успокоенным, ободренным, с надеждой на все доброе, без всякой боязни смерти и мучений, с забвением о семье, со свалившимся с души камнем, как будто никакой беды тебе не предстоит.
Скоро каноник оказался не в состоянии духовно меня удовлетворить. Подошла суббота. Захотелось отправить всенощную и пришлось это сделать пением лишь знакомых церковных песнопений. Долго я боролся с боязнью не только не получить, но и затерять иерейский молитвослов в случае присылки его из дома по моей о сем просьбе. Наконец, желанием иметь его была побеждена боязнь. На риск написал и к своей радости через неделю получил. Слава Богу! Теперь я стал совершать и всенощную, не только все выпевая, но и вычитывая: всеношная выходила почти самой настоящей — уставной и обедница — недурной. В иерейском молитвослове я отыскал ектении о избавлении во узах сидящих, и чтение их доставляло мне опять большую радость и отраду. Раз или два в течение дня я прочитывал их за разными дневными молениями своими.
Так прошло воскресенье первое. На другой же день, в понедельник, я столь же неожиданно получил первую передачу из дома. Я почти не надеялся получать передачи из дома во время своего сидения в качестве смертника. Кажется, вполне логично я рассуждал, зачем власти советские разрешат подкармливать домашней провизией тех, коим не ныне-завтра предстоит смерть; для наибольшей питательности могильных червей разве... К тому же рассчитывал, что о переводе меня на Шпалерку домашние еще не узнали, а если и узнали, то передачу смогут переправить мне сравнительно нескоро. Но часа в 4—5 дня, в совершенно для передач необычное время (как оказалось впоследствии), незаметно, неслышно подошедший к камере отделенный надзиратель открыл дверь и спрашивает меня о моем имени, отчестве и фамилии и отдает узелок с передачей. Какая, радость охватила все существо от этой немой, но и многоречивой в то же время весточки от людей жизни! Значит, не совсем я еще умер для мира, с ним связи еще не порваны; хотя через вещи, вначале только знакомые, а впоследствии ставшие родными, можно сноситься с семейными. Думалось, хотя и неуверенно, что и домашние посылкой этой свидетельствуют мне, что они знают о том, что я еще жив и не расстрелян. Я был почти уверен, что домашние, привыкшие за прежние мои сидения в тюрьмах к величайшей осторожности при передачах, не положат никакой записочки, тем более в первую передачу, но страстное желание иметь ее превозмогло над соображениями разума о невозможности ей быть там, и я с неудержимой энергией и удивительной внимательностью принялся отыскивать ее. Но и не найдя записки, был несказанно рад самой передаче.
Самые суеверные люди — это так называемые безбожники. При неверии своем, они очень боятся всяких несчастий жизни. Зная хорошо по всяческому опыту, что далеко не все в жизни зависит от сил самого человека и что этих последних очень недостаточно для творения жизни, они жизнь и удачи в работе своей обуславливают разными случайностями, совпадениями и т. п. Я далеко не суевер, но постоянная мысль о возможно близкой смерти и, конечно, боязнь ее в форме расстрела и меня на Шпалерке сблизила с приметами. Понедельник, первый понедельник предсмертного бытия, оказался для меня радостно-приятным, значит, по примете, и вся неделя должна быть доброй для меня. И что же? Во вторник — новая приятная неожиданность.
Лежу я на койке с бесконечными мыслями-гаданиями: расстреляют или нет. Вдруг открывается форточка в двери и слышится голос: «Приготовьтесь идти в ванную». От полной неожиданности такого приглашения я не сразу понял, что мне предлагается. Переспрашиваю и только тогда уясняю смысл. Как приятно было помыться! Ведь за все время более месячного тюремного жития только однажды и то плоховато мылся. Но не эта приятность была приятна — отрадно было хоть на несколько минут отрешиться от своего одиночества; думалось, что в ванной комнате я увижу какое-нибудь человеческое лицо, перекинусь парой-другой слов. Но где ванная? Как к ней поведут? Собрался, жду.
Через полчаса щелкает замок, открывается дверь и дежурный выпускает меня. Показывает на лестницу: спускайся-де вниз. Все это проделывается молча с обеих сторон. Внизу ждет меня другой надзиратель — банщик. Кругом ни души, впереди тоже никого не видно, кроме надзирателей, которые одиноко и уткнувшись в свои дела-бумаги сидят на перекрестках-углах лестниц. Назад оглядываться стесняюсь, дабы не получить какого-либо неприятного замечания. Тихо и жутко. Только стук от ног, ступающих по чугунному полу, гулко раздается эхом. Ведет меня надзиратель долго и далеко. Что-то я, было у своего проводника-банщика самое безразличное и неважное спросил. Он, оглядываясь кругом и назад, неохотно и односложно пробурчал мне. Несколько раз потом я ходил с этим проводником в банную, и весь наш разговор с ним ограничивался лишь моим вопросом о том, мылся ли и когда Владыка митрополит, и лишь однажды он сказал мне, что по сообщениям газет
наше дело передано во ВЦИК.
Доводил банщик до отделения, где подряд расположено 5–6 одиночных камер с ванной и душем; впустивши, запирал ванную на ключ и оставлял мыться в одиночестве, как и сколько угодно. Я ни разу не заметил, что он подглядывал в дверной глазок, и тут находящийся, за моим поведением в ванной. Спасибо ему за это, что он не смущал и не тревожил хотя во время мытья. Ванная — очень хорошая. Мылся я в ней всякий раз с удовольствием. Как будто я не в тюрьме отправлял эти общеобывательские операции. Через неделю снова меня пригласили в ванную. Ну, думаю, это хорошо — ванная каждую неделю.
В дальнейшем более или менее регулярно ванная предоставлялась. Возвращались мы с банщиком в камеру так же тихо и сумрачно, как и шли. Сколько раз мне хотелось увидеть кого-либо из своих в этих путешествиях, но никого не видел. Только в последний раз я встретил по пути из ванной идущим туда Богоявленского и мог даже расцеловаться с ним. Но это было уже в день отправления нас во 2-й исправ дом. Шпалерка встретила нас мрачно и подозрительно, выпроводила же, побаловав на прощание доброй ванной.
Итак, начавшееся в понедельник доброе настроение поддерживалось и во вторник. Я разохотился к дальнейшему. Среда, четверг — ничего, все обычно. Примета как будто не оправдалась. Пятница. Но в пятницу я получил великую радость. В пятницу я с половины дня стал ожидать передачи, рассчитывая по примеру понедельника и по образцу других тюрем, что мне ее принесут в камеру и среди дня. Но часы шли, а передачи все не было. Мрачные мысли поползли в голове. Да будет ли передача? Быть может, лишь первую передали и то в виде исключения, а последующие не допускаются. Не разрывается ли связь с миром и через передачи, как ее не допустили мне через письма?
С такими мыслями я пробыл часов до 10 вечера, когда щелкнувший дверной ключ возвестил мне о приходе кого-то. Входит надзиратель и приглашает идти за передачей. Куда идти?— Вниз, в комнату отделенного, где раздают передачи. Радостный, с сильно бьющимся сердцем, бегу. Вхожу в комнату отделенного в надежде встретить кого-либо из своих. Но в комнате, кроме отделенного, ни души. На полу громадный ворох бумаги оберточной от уже разобранных передач. На прилавке кучей беспорядочно сложены всякие продукты. Спрашивают мою фамилию, дают книгу для расписки в получении передачи. В книге только одна строка с моей фамилией открыта, а что нище и выше ее,— все закрыто бумагой, так что видеть росписи и фамилии других получателей совершенно нельзя. Впоследствии появилась даже особая папка с отверстием на одну строку для росписи в ней получателя. Абсолютная изоляция простиралась и сюда, чтобы подчеркнуть полное наше одиночество и тем отягчить и без того нерадостное положение смертника.
Передачу дают мне сложенную в самом безобразном, хаотичном беспорядке — не только все изрезано, измято, запачкано, но сброшено на скатерть — что куда и как попало. Но разбираться ли в этом? Не передают ни одного клочка не только белой простой бумаги, но даже и советской газеты. Собираю всю массу наложенного и бегу наверх. Письма никакого не дали, да я его и не ждал, убедившись из всего предшествующего, что никакая переписка с миром живых людей невозможна. С нервной дрожью в руках, у себя в камере начинаю рассматривать присланное. Смотрю салфетку — один узел развязан и два его конца болтаются, а другие два еще завязаны. Взявшись за неразвязанную сторону, ощупываю руками бумажку. Что это значит? Нервно развязываю и... о чудо! Письмо от семьи. Читаю, и какая радость! Сколько раз я перечитывал это письмо. Я его заучил наизусть.
В нем сообщалось, что сын Павел работает где-то по очистке и переноске плугов — значит, семья не останется без куска хлеба. И какая за это благодарность Господу, не оставляющему нас без попечения Своего! Особенно неожиданно было сообщение, что дочь Аня уехала вместе с Юлией Семеновной в Москву. Уж никоим образом я не предполагал, чтобы кто-либо решился хлопотать за меня, попавшего в столь важного и опасного государственного преступника. А тут еще Аня — 17-тилетняя девочка в ходатайницах! Конечно, она — лишь представительница страдающей семьи, а хлопотать, просить будет кто-то другой; имеющий в высоких московских сферах связи и надеющийся на силу их. Но кто же это? Юлия Семеновна, но кто она? Много и долго я ломал голову, гадая об этой Юлии Семеновне. Попадал мыслию и на ту Юлию Семеновну, которая ездила действительно, как впоследствии я узнал, и больше всего на ней мыслию останавливался, но до конца сидения на Шпалерке эта «Юлия Семеновна» оставалась загадочным иксом.
И сейчас, когда то время далеко отошло, я этот день получения этого письма, при таких исключительных условиях самого тщательного просмотра даже дна бутылки из-под молока и при недопущении в камеру смертника даже малюсенького клочка всяческой бумажки, считаю одним из светлых и радостных дней моей жизни всей. Ко мне приходит письмо целое, положенное так открыто, почти на виду, положенное как будто для того и так, чтобы его непременно нашли и прочитали! Я в этом увидел то, что одно только в нем и можно видеть и что никакими случайностями объяснить нельзя. Я увидел, что Господь меня еще не покинул совершенно, что Он сделал так, что самые зрячие и прыткие просмотрщики не доглядели и так чудесно пропустили ко мне это письмо. Для чего Господь устроил это? Чтобы поддержать и подкрепить меня в эти исключительно тяжелые дни жизни. Эти мои мысли были подкреплены через три дня таким же явственным чудесным образом.
Я пришел за передачей и мне было подано письмо от семьи. Но это было только начало с безынтересным перечнем посылаемого. Я как-то машинально, больше для себя, чем вслух заметил: а где же конец письма? Услышавший отделенный тоже совершенно машинально, как бы не сознавая делаемого, обращается к валяющейся на полу куче мусора из бумаг и веревочек и подает мне два клочка от присланного мне письма. Эти клочки, как не пропущенные моими цензорами, были оторваны и брошены, как вредные для моей изоляции. Как все это произошло? Кто побудил надзирателя сделать что-то невероятное? Как он мог сам по себе сделать противное себе и тому, что им было сделано сознательно и, с его точки зрения, правильно и законно? Какая-то неведомая сила его обратила как бы в маньяка, в машину. И как он мог из большой кучи мусора очень быстро — через какую-нибудь минуту — добыть два клочка именно моего письма? Как они там не завалялись и не затерялись? Кто-то, т. е., конечно, Господь Бог, творил все это... Из этих двух клочков я узнаю, что поездки Ани в Москву увенчались добрым успехом и что дома все поэтому очень спокойны.
После этих двух чудесно полученных и так быстро одно за другим следовавших писем у меня явилась почти полная уверенность, что Господь не хочет пока моей смерти, и я буду еще жить. Эти два письма окрасили радужными надеждами всю мою жизнь смертника. Они дали мне основание надеяться и, следовательно, силы переносить Шпалерку. После них я ожил. И какие бы тяжелые минуты мне впоследствии ни приходилось переживать, как тоска одиночества ни охватывала меня, как бы ни казались мне резонными все доводы остро и мрачно работающего рассудка о неизбежности для меня расстрела,— эти два письма сейчас же всплывали в сознании и на душе становилось легче. Я не знаю, что было бы со мной, смог ли бы я так терпеливо и совершенно благополучно перенести эти исключительно убийственные 40 дней Шпалерки, если бы не было этих писем и молитвы. Эта последняя после этих писем стала еще более усиленной, радостнотворно действуя на меня и поднимая дух, успокаивая сердце. Все Господь творит! Ему я обязан и безгранично благодарен за дарование мне жизни в это второе мое рождение на земле и первое воскресение из мертвых. Слава Богу за все! Ему хотелось бы отдать себя всецело...
На другой день пребывания на Шпалерке, проснувшись утром, я был увлечен сильным шумом и гулом от многих человеческих голосов, несущимся со двора тюремного. Я сразу определил виновников его — гуляющих по двору арестантов, и очень потянуло к окну: влезть и посмотреть. Я хорошо знал, что смотрение в окна в тюрьмах строго преследуется, но соблазн был так велик! Взгромоздился я на пыльный подоконник, смотрю, но по своей близорукости плохо разбираю. Вижу среди гуляющих много лиц в священническом одеянии. Но кто они? Некоторых узнаю, но большинство не узнаю. И радостно и тоскливо на душе. Радостно эгоистически: не один я в клетке запертый — много нас, а «на миру и смерть красна». А грустно, как обычно всегда грустно при виде арестованных, а тут каких еще арестованных! И за что арестованных? Ведь за веру и за Церковь… Занятие наблюдения мне понравилось: оно отвлекало меня от самого себя, от мрачных, тупых дум, страшных ожиданий.

Первый день наблюдения прошел благополучно и на душе от этого занятия было легко. Поэтому и на другой день в этом удовольствии не мог себе отказать. И тут все благополучно сошло. Но на третий день я, вероятно, стал более смел и менее осторожен. Вдруг вижу часового с ружьем, упорно смотрящего в мою сторону и что-то кричащего. Мне почему-то показалось, что эти крики не по моему адресу, и я продолжал смотреть. Но далее вижу: часовой подымает ружье и прицелом его направляет в мою сторону. Опять не думаю, что я своей персоной возбуждаю такое внимание стража, но на всякий случай схожу с окна и ложусь на койку в ожидании выстрела в кого-то.
Выстрела не последовало, а минут через 7—10 открывается в моей двери форточка, и слышу голос доброжелательного ко мне надзирателя: «Вы ведь без очков?» «Да»,— отвечаю. «Ну вот, я говорил им, что это не вы...» «Но в чем дело?»— «Ведь Вы в окно не смотрели?» Не мог же я скрыть и чистосердечно признался, что в окно я смотрел и для этого надевал очки, которые обычно в камере не носил. На это я получил любезное предупреждение, что если еще раз меня заметят у окна, то в наказание могут перевести в самый нижний этаж, где очень сыро, мрачно и темно. «А ваша камера,— добавил он,— очень хорошая».
Давши слово, держись. Я недели три совершенно не подходил к окну и даже не испытывал соблазна — к окну меня не тянуло. Но потом стал размышлять, что, если за просмотр в окно и посадят вниз, то беды в этом большой не будет,—всего-то сидения остается день-другой. Денька два еще посмотрел в окно и снова попался отделенному, проходившему по двору и меня заметившему. На этот раз я получил от него грозное замечание и больше после этого к окну уже не подходил.
Не забуду я никогда и Сергиева дня (5 июля по ст.ст.). Накануне я лег спать в свое обычное время. Долго не засыпал. Что-то тяжелое было на душе. Вдруг слышу: раздался гулкий удар колокола — один, другой и т. д. Что же это за благовест? Откуда и почему в такую позднюю пору (вероятно, было уже часов 11—12 ночи)? И... вспомнилось. Ведь завтра память преп. Сергия Радонежского и благовестят в Сергиевском соборе, где храмовый праздник, а собор совсем близко от тюрьмы. Завтра там — праздник и созывают православных к ночному богомолению. На душе стало совсем, совсем тяжело — на воле праздник, верующие идут в храмы помолиться, а я... здесь, запертый, без молитвы храмовой, без причащения... Вспомнилось, что, будучи на свободе, я гадал в этот день съездить в Сергиеву пустынь. И сильно, сильно потянуло к молитве. Я встал и полуодетый отслужил молебен преп. Сергию. После этого лег и быстро заснул.
Утро прошло обычно, по-тюремному. Часов в 12.30 дня вдруг открывается форточка, и дежурная надзирательница подает мне небольшой сверточек в красном платке и как-то взволнованно, полушепотом говорит мне: «Возьмите скорее. Тут что-то вроде причастия. Осторожнее... Не пролейте!» Благоговейно беру, с трепетом душевным развертываю. В платочке небольшой ящичек позлащенный, а в нем только что в храме за литургией освященные Св. Дары — Тело, Кровию Спасителя напоенное. Отделяю себе следующую, как казалось часть. Завертываю снова, как было, и жду прихода за ящичком. Через полчаса приходят за ним, но уже две незнакомые женщины в сопровождении благоволившего ко мне надзирателя, за несколько дней перед тем переведенного от нас в другой этаж. Женщины хотят взять от меня ящичек, но он со словами, что женщинам не полагается прикасаться к Святыне, забирает его сам и на моих глазах спускается с ним вниз по лестнице (моя камера № 182 была расположена почти совершенно напротив лестницы).
Я остаюсь со Св. Дарами. Но что делать? Сейчас же и принять их? Но я не готов, да и пообедал уже. Решаю оставить до завтра. Но доживу ли? Решаю, что Св. Дары, завернув в чистую бумажку, положу в укромное местечко, и если ночью придут за мной для расстрела, то первым долгом возьму Св. Дары и потреблю их. Если же этого не произойдет, то Св. Даров мне хватит дня на четыре-шесть.
Этот неожиданный подарок очень обрадовал меня. Меня очень волновало и огорчало до сего дня, что меня могут расстрелять, не давши мне возможности причаститься. Исповедывался я у о. П. Левицкого в 3-м исправдоме два раза; исповедывался у о. Сергия Шеина в 1-м исправдоме, в день переправки нас на Шпалерку. А причащался лишь на свободе, почти два месяца тому назад. А тут вдруг присылают Св. Причастие. Как радостно и торжественно было на душе! Это преподобный Сергий прислал.
Но скоро же стали появляться и другие, противоположные мысли, совсем нерадостные. Стало думаться: зачем прислали Св. Дары теперь (я не знал, конечно тогда, что прислали их из Сергиевского собора по ходатайству Владыки митрополита, с разрешения тюремного начальства). Не узнали ли на. воле о печальном исходе нашего дела в Москве и нас напутствуют на смерть? Ведь как раз исполняется вторая неделя после окончания нашего процесса. Но если так, то почему всем прислали? Неужели всех к расстрелу? Но это выйдет тяжелее московского процесса, где из 11 приговоренных только пятерых расстреляли. Но сам обвинитель Смирнов на суде заявил, что наш процесс менее серьезен, чем московский. И вдруг окажется, что у нас исход будет печальнее московского?! Не может быть этого! Значит, присылкой Св. Даров к расстрелу нас йе готовят. А, быть может, к расстрелу?! Ведь всего я знать не могу... Вот и началась борьба между двумя направлениями в рассуждении и настроении.
Конечно, наступающую ночь я ожидал с тревогой, тревожно и проводил ее, ожидая, что вот-вот отворится дверь и возьмут меня куда-то далеко. Так и следующую ночь проводил. Но это была тревога не из-за боязни смерти, а от тяжелого сознания смерти, от расстрела, быть может, при предварительных издевательствах и глумлениях, чего так много было на суде и что естественно было ожидать и, конечно, не в меньшей степени и пред расстрелом и в момент его. Но Св. Дары, причащение Их, сильно бодрило и даже успокоительно примиряло со смертью. Хотя умру, но все же со Христом через причащение Его Тела и Крови...
Причащался я дней пять подряд, и это было радостно и отрадно. День на Шпалерке обычно распределялся так. В 7—8 часов утра вставал, вычитывал медленно все утренние молитвы и канон дневному святому недели; это продолжалось около часу. После этого ходил из угла в угол по камере, лежал, читал Евангелие или Иоанна Златоуста. В 12 часов — обед и чай, опять лежал, ходил, прочитывал акафист Сладчайшему Иисусу, а через небольшой промежуток прочитывал акафист Божией Матери. В 5 часов — ужин и чай, прочитывал канон покаянный Спасителю, молебный Божией Матери и, отдохнув немного, вечерние молитвы. Под праздником совершал перед вечерними молитвами всенощную, а утром в праздничные дни — обедницу. Нередко, бродя по камере, выпевал все, что знал наизусть из церковных песнопений. Обычно после хорошей молитвы наступало хорошее духовное успокоение, а нередко переживались долгие минуты высокого религиозного подъема и всецелой отрешенности от земного и плотского, с искренней преданностью себя воле Божией.
Кажется, я исчерпал описанием всю фактическую сторону жизни на Шпалерке. Остается коснуться самого главного: душевного состояния, жизни внутренней. Она вся стояла под одним, всегда гвоздем стоявшим в голове и сердце вопросом: расстреляют или нет. Вопрос этот был в высшей степени неотвязчив, назойлив. Что бы я ни делал, чем бы ни старался занять себя, он неотступно мучил меня. Именно мучил. Возьмешься за Евангелие, он мешает понимать, а Златоуста я долго не мог даже читать. Только письма его к Олимпиаде меня несколько отвлекали и развлекали. И тут прочтешь 3—4 строки — и опять незаметно отдаешься старой неотвязчивой мысли, читаешь и не понимаешь. Только на молитве я — и то не сразу скоро — позабывался. Грустно, тяжело на душе, как-то темно, безотрадно, состояние какой-то безотчетной тоски, чего не выразишь словами, не втиснешь ни в какие определенные понятия и формулы.
Станешь на молитву и чувствуешь, как будто тебя какая-то неведомая сила отталкивает от нее, страшно не хочется молиться; произносишь слова, а в голове все тот же мучительный вопрос, в сердце нет успокоения. Читаешь и не понимаешь, перечитываешь по два, по три раза одни и те же слова молитвы и, только так себя приневоливая, наконец-то освобождаешься от своего мучителя, на душе становится тихо, ублаготворенно и кончаешь молитву успокоенным и, пожалуй, даже радостным,— нашедшим как будто благоприятный ответ на этот вопрос и готовым хоть сейчас идти на смерть. Только тюрьма дала почувствовать и пережить истинное наслаждение, успокоение и радоваяие в молитве и от молитвы.
Я прежде не раз слыхивал, что одиночные заключения сами по себе, даже без страха не ныне-завтра быть казненным, доводили немало людей до сумасшествия. Прежде было для меня лишь фраза, теперь я понял всю самую подлинную, настоящую, ужасную правду ее. Тюремное одиночество легко и естественно может довести до сумасшествия. Нас, смертников, спасала от этой беды вера в Божий Промысл и молитва.
Еще: не раз прежде в беседах с учениками и студентами, да со многими даже церковными людьми, я доказывал н старался всячески обосновать мысль, что молиться нужно не только тогда, когда я почувствую в себе позыв, тягу и расположение к молитве, ибо при таком условии, пожалуй, и совсем не будешь молиться, отвыкнешь от молитвы,— а тогда, когда тебе нужно по времени дня, по сложившимся обстоятельствам, по ходу твоей духовной жизни; нужно непременно заставлять себя помолиться, ибо результат молитвы, начатой по принуждению, сторицей вознаградит тебя. Но прежде эти мои рассуждения были более теоретическими силлогизмами. Теперь я на себе все испытал, и притом в исключительных условиях. Поэтому категорически и самым убедительнейшим образом утверждаю, что, если бы я не принуждал себя к молитве в эти тяжелые дни жизни, то я бы не молился, ибо, вероятно, не дождался бы этого молитвенного настроения; а без молитвы я, если бы и не сошел с ума, то не вышел бы из ДПЗ со здоровым телом и крепким духом. Без молитвы всякое горе — неутешно, всякая неудача — чрезвычайна.
Ложь, какой-то диавольский навет, когда без молитвы, и только для нее одной, требуют «настроения» и конфузятся принуждения. Почему не конфузятся и не боятся, а даже требуют принуждения для проявления и развития других способностей и отправлений душевной жизни? Никто никогда не становится художником или артистом своего, того или иного великого служения без предварительного принуждения со стороны других людей или самого себя. Любитель — самый способный и талантливый — своего искусства, хотя бы с самых пеленок, он непременно принуждался бы для выработки и установки техники своего искусства. Никакое душевное наслаждение — пением, музыкой — не поддается виновнику его вдруг, сразу и свыше — оно творится, но всегда с понуждением предварительным. Я только Бога благодарю, что, принуждая себя молиться, я вышел из 40-дневного подсмертного состояния без особенных дефектов в области умственной жизни.
Я уверен, что и ночи — большую часть — я спал сравнительно спокойно и крепко благодаря вечерней, всегда продолжительной и всегда меня успокаивающей молитве. Тяжесть мрачных дневных мыслей на ночь меня покидала, и я освобождался от их кошмарного действия. Не помню, чтобы и во время сна я тревожим был какими-нибудь тревожными сновидениями.
Очень нередко всплывало в памяти все происходившее и говоренное во время суда. Конечно, больше всего вспоминалось, что я говорил или что обо мне говорили на суде; из всего припоминаемого начнешь, бывало, делать то печальные, то радостные выводы. По инстинктивному желанию успокоить себя я старался приводить на память по преимуществу все доброе и для меня благоприятное, в такую же сторону объяснять и все дурное и неприятное, происходившее на суде. Первые две недели я чувствовал себя лучше, чем последние. Меня уверяли, и я верил, что ранее двух недель после приговора не закончится наше дело рассмотрением в Москве и оттуда ранее этого срока не придет никакого ответа. К тому же вести так чудесно попавших мне в руки двух писем из семьи сильно поддерживали бодрость духа. Все же, способное печалить, сильно и мрачно тревожить, я отгонял от себя, боролся против него, стараясь, даже принуждая себя, не помнить, забыть его. На второй же день по переводе в ДПЗ я под расписку получил печатный обвинительный приговор, но читать его я не мог. Слишком это чтение тяжело было для меня. Мне тяжело было даже видеть его, и я его запрятал в глубокий карман рясы, подальше от себя. Прочитал я его только перед самым выходом из особого яруса, когда было объявлено мне о замене расстрела пятью годами тюрьмы без изоляции.
Настроения у меня, особенно в первые две недели, менялись, чередовались через день: один день смотришь на все и оцениваешь все розово, ожидаешь для себя только благоприятного: следующий день — мрачный, тоскливый, грустный. Если сегодня мысль работает бодро, подбирая только приятные для меня факты, слова и т. п. и благоприятно их для себя комбинируя и оценивая, то на другой день — та же самая логика с еще, кажется, большей убедительностью уясняла неизбежность расстрела. И когда она особенно сильно работала в этом последнем направлении, на душе становилось даже спокойнее: коли смерть неизбежна, то чего же печалиться и зачем грустить?
Начиная с конца второй недели сидения на Шпалерке, настроение стало заметно изменяться в сторону все большего и большего уныния и грусти. Вот-вот, не сегодня, так завтра придет известие из Москвы. Радостное ли? Начнешь, бывало, в сотый раз обсуждать и переоценивать все, что, казалось, могло утешать и радовать меня. Но сейчас же пессимистическое и мрачное брало мысль мою в свою власть и начинало выходить, что «не надейся, свет мой, по-пустому». И с каким, бывало, нетерпением ожидаешь дня передачи из дома, когда получишь из дома письмо, а в нем, быть может, что-нибудь радостное и утешительное о своей судьбе. Каждое слово записочки полученной обдумываешь, сопоставляешь и т. п. Ищешь в нем хоть каких-нибудь намеков на доброе или тяжелое для себя.
Почему-то особенно тяжело мне бывало с утра, часов до 4—5 дня. Ничем, бывало, себя не займешь, не заинтересуешь... Я старался заставлять себя больше лежать, дремать. А тут, как-то уже во второй половине сидения, вышло распоряжение начальства, чтобы к 8 часам утра койка была убрана и чтобы никто на ней не лежал до обеда. Что тут было делать со столь длинным утром?
Представляя всю мучительность бессонной ночи, я старался днем не спать или только дремать. Я со слов многих знал, что расстреливают по ночам — зимой с вечера, а летом на утренней заре. Ночи в июле были короткие, и это опять было большим благом. Ложиться я старался попозже, и, так как рассвет начинался рано, то я спокойно и засыпал: если с вечера оставили на койке, значит, утром не расстреляют. Зато с вечера, бывало, прислушиваешься ко всякому гудку мотора, к шагам в коридоре, к звяканью ключами в дверях соседних камер. Однажды я совсем было уже решил, что час мой пришел. Я уже лег и почти задремал. В камере уже стемнело. Вдруг слышу звяканье ключа в замке моей, именно моей, камерной двери. Зачем ее отпирают в такой поздний час? Ответ мог быть только один и самый печальный. Я привстал, перекрестился и приготовился идти. На душе было как-то совсем спокойно; какая-то решимость овладела мной. Дверь отворилась, но быстро и захлопнулась, и я услышал только слова: «Извините, мы ошиблись...» Вероятно, водили кого-то из соседней одиночки гулять вечером и при водворении его на место жительства, ошиблись камерой. Я уже писал, что суеверие и приметы в дни тяжелых испытаний весьма присущи. Мне поверилось, да как-то убежденно, что расстрел мой миновал меня, я его как бы отбыл вот в этом факте, ибо, если живого похоронят по людской молве, то, по примете, это — признак его долгой будущей жизни. И дня два я был спокойнее обычного.
Отчего же в эти сорок дней тяжело так чувствовалось, и мрачные мысли овладевали мной? Теперь, когда я вспоминаю перечувствованное и пережитое и в уме хладнокровно анализирую все это, я могу так ответить: тяжело было не от того, что скоро могу умереть. Нет! Я мыслил, что мне уже 52 года, что жизнь моя, можно сказать, уже прожита; что громадное количество людей умирает, не доживши до этих лет, и т. п.
Тяжело было, что я умру ни за что, ни про что. За веру и Церковь? Тогда и теперь я отвечаю на это почти отрицательно. Конечно, нашим процессом надеялись унизить веру, подорвать авторитет духовенства, разорить Церковь. Но в моих отношениях к изъятию церковных ценностей этого стояния за веру было очень мало. Было больше борьбы за золото и серебро церковное, за имущественное достояние и права Церкви. А стоит ли за это умирать? Тяжело за это умирать... Тяжело умирать, как и теперь сидеть в тюрьме, от сознания, что и знаний научных и жизненных у меня достаточно, и сил умственных и физических не занимать стать и желания работать, и именно в это бурное время и совсем не в направлении контрреволюционном, у меня немало. И вдруг смерть... Смерть-жертва? Но для кого она нужна? Кого она побудит к подражанию? Дай чему в нашем деле подражать? Смерть мученика? Но за что? За ценности вещественные? Не велика цена такой смерти...
А тут сейчас выплывали мысли о семье, о той (о жене), которой во всю семейную жизнь на долю выпало так много страданий и горестей, о малых детях, о их духовной незрелости и материальной необеспеченности. Старался постоянно приводить себе на память слова псалмопевца, что дети праведного не останутся нищими и голодными. Но то дети праведного, а я разве за правду страдаю, за веру? Правда не повелевала ли без всяких рассуждений и подозрений отдавать все церковное серебро в пользу голодающих? Да, действительно, я ни в чем не повинен, в чем меня обвинили на суде и так сурово наказали. Но вся моя прежняя жизнь со всеми ее грехами и неправдами, разве не взывала об отмщении мне? Не хочет ли Господь за мои грехи покарать детей моих? Вот эта-то мысль, до которой я часто доходил, особенно угнетала и давила меня. Из-за меня страдают и еще тяжелее будут страдать ни в чем не повинные дети мои! Да, это сознание тяжелее всякого физического наказания и страдания! Умереть при мысли, что дети будут тебя обвинять в их жизненных страданиях и горестях, казалось мне самым величайшим Божиим наказанием, и тяжело, очень тяжело было.
Конечно, постоянной была и мысль о моей еще неподготовленности к смерти и к будущей жизни. Грехи за прожитое время один за другим вставали передо мною, и я бросался к молитве. Правда, я не грабил, не убивал, но только ли это отрицательное требуется для чистоты нравственного сознания и делания, тем более для священника? Но тут сейчас же всплывали примеры милостей Господних к падшим из евангельской истории по их молениям к Нему, и я опять ободрялся и светлел. Вера сильно поддерживала, молитва подкрепляла, и я не падал духом. С течением времени мысль о смерти не только не пугалась будущих мучений, но их как бы совершенно не страшилась. Очень нередко, в конце сидения в ДПЗ, умереть казалось легким и даже желательным, — и именно теперь, при совершенно несправедливом ко мне суде, при горячих постоянных молитвах, при обилии пролитых мною, и особенно за меня, слез, — и умереть через расстрел, т. е. все-таки мучеником. Но вдруг всплывали, как бы перед глазами, все семейные, которых страстно, целостно любил, и опять какой ужасной начинала казаться грядущая — не ныне-завтра — насильственная смерть. Плотские привязанности родства осиливали, и духовная радость от мысли о смерти исчезала.
Тем не менее я все более и более сживался с мыслью о предстоящей смерти и стал окончательно себя готовить к ней. Дней за пять до выхода из особого яруса я заставил себя прочитать «Отходную». Как было тяжело вначале читать себе самому последнее «прости». Слезы капали из глаз, слова не поддавались пониманию. Но потом я увлекся хорошим сердечным содержанием «Отходной» и кончил ее совершенно успокоенным. На второй день вечером меня уже что-то потянуло к этой «Отходной» молитве, и я ее читал с восторгом и упоением. На третий я уже не читал ее, ибо получил от надзирателя нелегальное уведомление, что среди четырех, коим расстрел не отменен, моей фамилии не значится. Хотя всецело я не доверял этой вести, хотя мне все еще представлялись многие возможности для сомнения в отдаленности для меня смерти на неопределенное время, но все-таки при наличии этой вести я считал вызовом Господу Богу читать себе «Отходную».
Возможно, что в значительной степени благодаря «Отходной», да и вообще к концу сидения в ДПЗ установившемуся у меня примирению со смертью, я как бы совсем отошел от жизни, все более и более позабывая о семье и о ее горе без меня; я как-то ушел в себя, в свои мысли о будущей жизни, я стал как бы действительно живым мертвецом. Поэтому, когда 1/14 августа было объявлено мне постановление московского ВЦИКа о замене расстрела пятью годами тюрьмы, то я отнесся к нему как-то бесстрастно, оно не произвело на меня особенно радостного впечатления. У меня явилось как бы недовольство и разочарование: вот-де, готовился к смерти, а ее отменили. Весь день я ходил по камере, как бы не понимая значения этого постановления для жизни моей и недовольный тем, что придется изменять жизнь со всеми мыслями, суждениями и настроениями.
Только к вечеру этого дня и особенно на следующий день, после свидания с семейными, я начал понимать и оценивать происшедшее под углом зрения начинающегося нового, я стал как бы воскресать к новой жизни. На другой день ко мне пришла на свидание родные семейные. Меня вывели и привели к ним. Я шел, опять-таки не понимая, кто и зачем пришли, зачем меня тревожат. Никакой радости не испытывал я, что вот сейчас, сию минуту, я увижу своих дорогих родных, буду с ними разговаривать. Я встретился и поздоровался с ними холодно, не знал, о чем с ними разговаривать и не был недоволен, когда свидание наше прекратили. Неудивительно, что я на них произвел впечатление почти что ненормального человека.
Только придя со свидания к себе в камеру, оставшись наедине с собою, я стал мало-помалу приходить в себя, стал правильнее оценивать происшедшее, вспоминать лица и разговор на свидании, что по прошествии каких-нибудь 15–20 минут по окончании свидания я никак не мог воспроизвести всех подробностей разговора, ни лица жены и бывших с нею детей, даже не мог припомнить, кто же из детей был сейчас у меня на свидании. Так, значит, я отрешенно от жизни, в каком-то полусознательном состоянии, в полузабвении провел свое первое свидание с родными. Я виделся и говорил с дорогими мне лицами, но душой и мыслями я был не с ними.
Не так я отнесся и вел себя во время второго свидания, бывшего у меня в этот же день, часа два-три после первого, тоже с детьми другими. Когда меня вызвали на свидание, я прежде всего увидел, что одежда моя очень рвана и истрепана, и я постарался ее прикрыть рясой; в первое свидание я этой изношенности одежды не замечал и на нее не обратил внимания, идя к родным на свидание. Я был рад и доволен, что пришли дети на свидание, и мне хотелось с ними долго, долго говорить. Я их выспрашивал с большим воодушевлением и главным образом о том, о чем во время первого свидания с женой и что меня тогда мало интересовало и волновало.
С этого второго свидания я пришел уже другим человеком, как бы выздоравливающим к новой жизни. Я был рад и восторженно стал думать о предстоящей мне, хотя и через 5 лет, свободной трудовой жизни.
И эти предстоявшие мне 5 лет тюрьмы казались очень непродолжительным сроком, который должен скоро пройти, и после них начнется-де снова настоящая трудовая жизнь.